Часть первая
Император Август — устроитель развлекательной резниГладиаторы, фехтовальные школы, зрелищные бои — что было связано со всем этим в древнем Риме? «Трижды я давал гладиаторские игры от своего имени и 5 раз от имени моих сыновей и внуков. Во время этих игр участвовало в боях около 10 000 человек. Зрелище состязаний созванных отовсюду атлетов дважды представлял я народу от своего имени, а в третий раз — от имени моего внука. 4 раза я устраивал игры от своего имени, а также 23 раза — вместо других магистратов (от их имени). В консульство Г. Фурния и Г. Силана[9] я как глава коллегии квиндецемвиров[10] с М. Агриппой в качестве коллеги устроил Секулярные игры[11] от имени этой коллегии. В свое 13-е консульство я впервые устроил Марсовы игры,[12] которые после этого устраивали ежегодно по постановлению сената консулы вместе со мной. От своего имени или от имени моих сыновей и внуков я 26 раз устраивал для народа травлю африканских зверей в цирке, или на форуме, или в амфитеатрах. При этом было истреблено 3500 животных. Я устроил для народа зрелище морского сражения за Тибром, там, где сейчас находится роща Цезарей, вырыв для этого в земле [пруд] 1800 футов в длину и 1200 футов в ширину. В сражении бились друг с другом 30 трирем или бирем,[13] снабженных таранами, а также множество более мелких кораблей. В составе этих флотов кроме гребцов сражалось еще около 3000 человек». Человеком, похваляющимся этой дорогостоящей бойней и занявшим почти монопольное положение в организации развлечений подобного рода, был Август (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.), первый римский император и приемный сын Цезаря, выходец из плебейского рода, звавшийся вначале Гаем Октавием. Эти данные он привел сам в уникальном документе о своих делах и свершениях «Res gestae divi Augusti»[14] и повелел обнародовать на двух медных столбах в Риме, установленных в его честь, с тем чтобы «деяния божественного Августа», которыми он подчинил «круг земель» власти римского народа, и «расходы, которые он делал для государства и римского народа», свидетельствовали на все времена о его величии. Выдержанный в сжатом стиле документ, написанный Августом на 76-м году его жизни, заканчивается утверждением уже не от лица самого принцепса: «Расходы, которые он делал для сценических представлений и гладиаторских игр, выступлений атлетов, травли зверей и морского сражения, а также деньги, которые он раздал городам, общинам и селениям, уничтоженным землетрясением и пожарами, или которые выдавал друзьям и сенаторам, восстанавливая таким образом их состояние, не поддаются счету». Был ли «божественный Август», получивший больше почестей, чем любой другой человек, тираном, особенно презиравшим людей, стремившимся кровью целых легионов гладиаторов купить благосклонность черни? Или эти смертельные и ужасные народные увеселения были столь же обычным явлением римской повседневности, как еда и питье? Где, когда и как возникли эти показательные бои не на жизнь, а на смерть? Может быть, первоначально за этим крылось нечто иное, нежели извращенное щекотание нервов? Где же корни? Народный праздник смерти«Человека — предмет для другого человека священный — убивают ради потехи и забавы; тот, кого преступно было учить получать и наносить раны, выводится на арену голый и безоружный: чтобы развлечь зрителей, с него требуется только умереть». Такими резкими словами бичевал Сенека Младший (4 г. до н. э. — 65 г. н. э.) гладиаторские бои, присягая провозглашаемому стоиками братству всех людей. Этот самый ранний и наиболее примечательный из известных нам протестов содержится в сборнике «Письма к Луцилию». Происходивший из Испании философ и драматург, живший в Риме и позднее принужденный к самоубийству своим бывшим учеником Нероном, видел в кровавых играх извращение нравов. Можно придерживаться разных мнений о его двусмысленном поведении как доверенного лица Нерона, но в его возмущении чудовищными боями гладиаторов сомневаться не приходится. Более решительно до него никто не высказывался против этого. Его ненависть к такому унижению человека основывалась на собственном опыте. Однажды он зашел в амфитеатр в «спокойное» полуденное время, когда, для того чтобы заполнить перерыв между боями в первой и второй половине дня, т. е., так сказать, в качестве промежуточного акта, на арену выпускали неопытных и почти беззащитных жертв для обоюдного убийства, с тем чтобы оставшиеся на своих местах зрители, лишившись домашнего обеда, могли утолить хотя бы свою кровожадность. «Случайно попал я на полуденное представление, надеясь отдохнуть в ожидании игр и острот — того, на чем взгляд человека успокаивается после вида человеческой крови. Какое там! Все прежнее было не боем, а сплошным милосердием, зато теперь — шутки в сторону — пошла настоящая резня! Прикрываться нечем, все тело подставлено под удар, ни разу ничья рука не поднялась понапрасну. И большинство предпочитает это обычным парам и самым любимым бойцам! А почему бы и нет? Ведь нет ни шлема, ни щита, чтобы отразить меч! Зачем доспехи! Зачем приемы? Все это лишь оттягивает миг смерти. Утром люди отданы на растерзание львам и медведям, в полдень — зрителям. Это они велят убившим идти под удар тех, кто их убьет, а победителей щадят лишь для новой бойни. Для сражающихся нет иного выхода, кроме смерти. В дело пускают огонь и железо, и так покуда не опустеет арена. — «Но он занимался разбоем, убил человека». — Кто убил, сам заслужил того же. Но ты, несчастный, за какую вину должен смотреть на это? — «Режь, бей, жги! Почему он так робко бежит на клинок? Почему так несмело убивает? Почему так неохотно умирает?» — Бичи гонят их на меч, чтобы грудью, голой грудью встречали противники удар. В представлении перерыв? Так пусть тем временем убивают людей, лишь бы что-нибудь происходило. Как вы не понимаете, что дурные примеры оборачиваются против тех, кто их подает?» Удовольствие, с которым толпа предавалась кровожадности, приводит Сенеку, философа-моралиста и выдающегося литератора своего времени, к выводу: «И нет ничего гибельней для добрых нравов, чем зрелища: ведь через наслаждение еще легче подкрадываются к нам пороки. Что я, по-твоему, говорю? Возвращаюсь я более скупым, более честолюбивым, падким до роскоши и уж наверняка более жестоким и бесчеловечным, и все потому, что побыл среди людей». Насколько гладиаторские бои вошли в кровь и плоть римлян, овладели их помыслами и чувствами, видно не в последнюю очередь из суеверия, возникшего и причудливо расцветшего на этой основе. «Биться гладиатором (во сне) означает суд или иную какую-нибудь распрю или борьбу. Кулачный бой тоже считается боем, хоть ведется и без оружия, означающего судебные бумаги и жалобы. Оружие гладиатора убегающего всегда означает ответчика, а оружие гладиатора преследующего — жалобщика. Я не раз замечал, что такой сон предвещает женитьбу на женщине, подобной или оружию, которым бьешься, или противнику, с которым снится борьба… Итак, кто бьется с фракийцем, тот возьмет жену богатую, коварную и любительницу во всем быть первой: богатую, потому что фракиец весь в латах, коварную, потому что меч у него кривой, а первенствующую, потому что он наступает. Если кто бьется с самнитом при серебряном оружии, то возьмет жену красивую, не очень богатую, верную, хозяйственную и уступчивую, потому что такой боец отступает, прикрыт латами, а оружие у него красивее, чем у первого. Если кто бьется с секутором, то возьмет жену красивую и богатую, но гордую богатством, а потому пренебрежительную даму и причину многих бед, потому что секутор всегда преследует. Кто во сне бьется с ретиарием, тот возьмет жену бедную, страстную, распутную, легко отдающуюся желающим. Всадник означает, что жена будет богатая, знатная, но умом недальняя. Колесничник означает жену бездельную и глупую; провокатор — красивую и милую, но жадную и страстную; гладиатор с двумя мечами или с кривым серпом — отравительницу или иную коварную и безобразную женщину» — так, во всяком случае, утверждал во II в. н. э. толкователь снов Артемидор из малоазийского города Далдис. Женщину, вновь вышедшую замуж и, по обычаю, расчесывающую волосы копьем, ожидает счастье, если это оружие принадлежало гладиатору, смертельно раненному на арене. Малоаппетитным кажется нам поверье, по которому можно излечиться от падучей, если напиться теплой крови сраженного гладиатора. С другой стороны, в наше столь богатое суевериями время неудивительно, что судьбу гладиатора читали по звездам, а повлиять на нее можно было с помощью амулетов и колдовства. Но все это лишь крайние проявления публичных увеселений — кровавого спорта, самого отвратительного из когда-либо выдуманных человеком. Как же он возник? Человеческая кровь для духов умершихПрошло почти 500 лет с момента основания города Рима,[15] прежде чем там состоялся первый бой гладиаторов, засвидетельствованный историческими источниками. В самом начале первой Пунической войны,[16] в 264 г. до н. э., два сына умершего Децима Юния Брута Перы выставили на тризне на Бычьем рынке (Forum Boarium) три пары фехтовальщиков, одновременно сражавшихся друг против друга. И хотя с этого началось быстрое развитие римской гладиатуры, фехтовальные игры зародились все же несколькими веками раньше. Римлянам были известны и раньше человеческие жертвоприношения в честь умерших, принявшие позже более мягкую форму боев гладиаторов; поэтому было бы неверно утверждать, что сыновья Брута Перы неожиданно изобрели этот вид погребальных игр. О человеческих жертвоприношениях на тризнах скифов сообщал еще древнегреческий историк Геродот (484–425 гг. до н. э.), а в «Илиаде» Гомера мы читаем о похожих ритуалах греческого войска под стенами Трои при погребении Патрокла. Именно эти погребальные церемонии в честь Патрокла встречаются снова и снова в Италии в росписях гробниц этрусков, живших к северу от Тибра, в городах-государствах, слабо связанных друг с другом. В ярком этрусском искусстве явно прослеживается греческое и восточное влияние. Причина, по которой этруски избрали именно этот жестокий сюжет главной темой своей надгробной живописи, кроется, вероятно, в их собственном религиозном обычае, которого они упорно придерживались: так же как при погребении Патрокла, они практиковали жертвоприношения военнопленных для успокоения душ своих павших, с тем чтобы таким образом умилостивить богов кровью. Основной смысл жертвы, а именно умиротворение богов, сохранялся даже в тех случаях, когда людей иногда заменяли куклами, как предполагают многие исследователи. Но еще раньше этруски превратили простое заклание военнопленных, приносимых в жертву при погребениях, в нечто другое, а именно в их борьбу не на жизнь, а на смерть у могил и на арене. До нас дошли этрусские погребальные урны второй половины III в. до н. э., на которых изображены такие фехтовальные игры. На этих изображениях в двух случаях галлы противостоят своим соплеменникам, а в одном случае — галлы фракийцам. Оба этих сочетания хорошо известны нам по более поздним гладиаторским боям римлян. Можно предположить, что эти рельефы на этрусских погребальных урнах возникли не в том же году, что и сами боевые игры. Скорее это художественное изображение обычая, который уходит своими корнями в гораздо более раннее время. Таким образом, этруски изобрели гладиаторский бой, а римляне заимствовали его в период этрусского господства в Риме в VI в. до н. э. На это определенно указывал еще Николай Дамасский, греко-сирийский историк, живший при Августе. Сыновья Брута Перы, выставившие в 264 г. на Бычьем рынке в Риме три пары фехтовальщиков на тризне в честь своего умершего отца, таким образом, просто подражали древнему этрусскому обычаю, точно так же как римляне вообще заимствовали у этрусков и другие обычаи: сценические игры, случавшиеся изредка человеческие жертвоприношения и звериные травли. Кровавые бои с дикими животными вели так называемые бестиарии, имевшие свою разветвленную организацию. Росписи VI в. до н. э. в Тарквиниях запечатлели этих людей, брошенных диким зверям, — этрусский обычай, которому позже в Риме суждено было стать развлечением для народа. На этрусское происхождение показательных боев У римлян указывает и тот факт, что павших гладиаторов убирал с арены этрусский бог мертвых Харун — переодетый раб с молотком, служившим символом божества. Возможно, латинский термин «ланиста», обозначающий предпринимателя, организатора игр, заимствован из этрусского языка, в котором он имел также значение «палач». Долгое время, примерно до конца II в. до н. э., римляне устраивали бои гладиаторов исключительно на погребальных празднествах, которые все еще, особенно в Галлии, носили печать религиозного жертвоприношения. На государственных праздниках с их скачками и сценическими представлениями они еще полностью отсутствовали. Сначала эти показательные бои происходили редко, затем все чаще и становились более дорогими и роскошными. Принесение человеческих жизней в жертву богам при этом не играло никакой роли. Бои гладиаторов становились для любивших зрелища римлян событием, которое добросовестно фиксировали летописцы. Если в 264 г. до н. э. на уже упомянутой тризне по усопшему Бруту Пере на Бычьем рынке выступили три пары бойцов, то в 216 г. на погребальных празднествах в честь М. Эмилия Лепида на Форуме были выставлены уже 22 пары. В 206 г. до н. э. Сципион дал munus — так назывались гладиаторские игры доимператорского времени — в Новом Карфагене, на юго-восточном побережье Испании, в честь своего усопшего отца и дяди, причем, как подчеркивает Ливий,[17] сражались друг с другом и добровольцы. На погребальных празднествах в честь М. Валерия Левина в 200 г. до н. э. уже 25 пар бились в течение четырех дней, а в 183 г. до н. э. при погребении П. Лициния даже 60 пар гладиаторов. Это щекочущее нервы времяпрепровождение пользовалось у римлян столь растущей популярностью, что в 174 г. до н. э. состоялось уже несколько гладиаторских игр. На самых крупных, устроенных Т. Фламинином в честь умершего отца, в течение трех дней сражались 36 пар. В том же году селевкидский правитель Антиох IV Эпифан[18] ввел гладиаторские игры в Сирии, для чего доставил гладиаторов из Рима. В 122 г. до н. э. римский народный трибун[19] Г. Гракх использовал munus в политических целях. «Для народа устраивались гладиаторские игры на форуме, и власти почти единодушно решили сколотить вокруг помосты и продавать места. Гай требовал, чтобы эти постройки разобрали, предоставив бедным возможность смотреть на состязания бесплатно. Но никто к его словам не прислушался, и, дождавшись ночи накануне игр, он созвал всех мастеровых, какие были в его распоряжении, и снес помосты, так что на рассвете народ увидел форум пустым. Народ расхваливал Гая, называл его настоящим мужчиной, но товарищи-трибуны были удручены этим дерзким насилием». Важным рубежом в развитии и изменении гладиаторских игр является год консульства П. Рутилия Руфа и Г. Маллия (или Манлия) Максима. Тогда, т. е. в 105 г. до н. э., преподаватели из школы гладиаторов Г. Аврелия Скавра обучали своему искусству легионы Рутилия. Эта систематическая подготовка солдат в боевом искусстве была призвана противодействовать изнеживающей греческой культуре, которая повсюду задавала тон. Тем самым гладиаторские игры, учитывая их военное значение, получили признание государства. В то же время оба консула впервые официально устроили гладиаторские игры для народа как магистраты, т. е. независимо от заупокойного культа. Из частных ритуалов жертвоприношения они превратились таким образом официально в публичное развлечение. Для упорядочения организации столь популярных гладиаторских игр, значение которых постоянно возрастало, магистраты сначала в Риме, а затем и в муниципиях и колониях[20] издавали законоположения о таких мероприятиях. Несмотря на это вмешательство государства, частные лица продолжали устраивать в честь умерших погребальные гладиаторские игры. О росте популярности гладиаторских боев среди публики свидетельствует римский комедиограф Теренций: в 160 г. до н. э. пришлось внезапно прервать представление его пьесы «Свекровь», так как распространился слух о том, что именно в это время начнется бой гладиаторов на погребальных играх в честь Эмилия Павла[21] — событие, которое, конечно, никто не хотел пропустить. Большинство зрителей между тем уже не помнили того, что бои «осужденных на смерть» берут свое начало от жертв, приносимых в честь умерших. Они видели в кровавой бойне только щекочущее нервы развлечение, которое привлекало их больше, чем комедийное представление. Североафриканский христианский писатель Тертуллиан, живший во II в. н. э., называет гладиаторские бои в амфитеатре самыми известными и распространенными зрелищами и характеризует превращение священной жертвы в садистское ярмарочное удовольствие следующими словами: «То, что жертвовали умершим, считали служением мертвым… «Munus» называется так потому, что это — обязанность (officium). Древние считали, что они этими играми отдают долг умершим, после того как они смягчили их характер меньшей жестокостью. Ведь прежде покупали и приносили в жертву на похоронах пленных или дурных рабов в надежде умиротворить духов умерших человеческой кровью. Позднее предпочли заменить жестокость удовольствием. И так людей, которых приобретали только для того, чтобы научить, как убивать друг друга, обучив владению оружием на том уровне, какого только можно было достичь в то время, затем в назначенный день заупокойных жертвоприношений истребляли у могильных холмов. Так облегчали смерть убийствами…» Гладиаторов, участвовавших в боях у таких могил и изображенных, между прочим, на вышеназванных рельефах этрусских надгробий, погребальных урн, иногда называли бастуариями, т. е. «сжигателями трупов». Таким образом, в течение многих столетий римской истории основным поводом таких гладиаторских игр была память об умерших. Это могли быть не только обожествленные правители, представители знати и государства, но и богатые граждане, например торговцы, которые могли себе позволить такие расходы. Часто это оговаривалось в завещаниях, а родственники умершего должны были выполнить его последнюю волю. Желания умерших иногда приводили к парадоксам. Так, например, одно завещательное распоряжение предписывало проведение поединка между двумя весьма привлекательными женщинами при погребении наследодателя. Другой распорядился в своем завещании о проведении боя между двумя мальчиками, которых он любил при жизни, ибо хотел, как свидетельствует об этом античный источник, воссоединиться с ними в потустороннем мире. В этом случае, правда, обычно падкие на удовольствие зрители с необычным благородством отказались от исполнения последней воли. Но зато в другом случае они, наоборот, выражали свое возмущение до тех пор, пока им не предоставили это щекочущее нервы зрелище: речь идет о жителях Полленции (Полленцо) в Лигурии, которые в начале I в. н. э. силой препятствовали погребению умершего магистрата до тех пор, пока его наследники наконец не выложили деньги на проведение гладиаторских игр. Термин «munus» (во множественном числе — «munera») постоянно использовался для обозначения гладиаторских игр. Если раньше они проводились исключительно при погребении умерших, т. е. нерегулярно, то постепенно их перенесли на декабрь, когда справлялись сатурналии — праздники в честь бога Сатурна, связанные вначале с человеческими жертвоприношениями. Человеческой кровью умиротворяли и страшных богов подземного мира, а также богов земледелия. Переходные состояния римлян в особенности требовали принесения искупительных жертв — это послужило еще одной причиной проведения гладиаторских игр в годовщины дней рождения или смерти, в честь победы или наступления нового столетия, при сооружении новых зданий и освящении статуй или храмов или по другим подобным поводам. Школы гладиаторов в Капуе, откуда вырвался Спартак со своими 70 товарищами по несчастью, пользовались особым авторитетом, который переносился, естественно, и на проходивших в них обучение бойцов. Объясняется это тем, что этруски в зените своего могущества селились в Кампании, и жители этой области, как и Лукании, граничившей с нею на юге, уже в ранний период заимствовали у них фехтовальные игры. В кампанской Капуе и луканской Посейдонии (Пестуме) известны живописные изображения израненных и истекающих кровью гладиаторов со шлемами, щитами и копьями. Бойцов определенного типа, происходивших из этой местности, римляне называли «самнитами»,[22] а Капуя долгое время считалась оплотом гладиаторских поединков. На потеху толпеС превращением гладиаторских боев из ритуального умерщвления в честь умерших в убийство для развлечения падкой на удовольствия толпы одновременно увеличивалось количество этих кровавых игр и «посвященных смерти». Развращенная толпа, отведав однажды вкус крови, страстно жаждала все нового и нового кровопролития. Но чем больше жертв погибало на этой бойне для удовлетворения страсти к зрелищам, тем острее становилась потребность в пополнении, в новом человеческом материале. Откуда брали римляне «человеческий материал» для гладиаторских игр? В этих показательных сражениях не на жизнь, а на смерть участвовали военнопленные и осужденные преступники, рабы и нанятые свободные граждане. Одних выпускали на убой без всякой подготовки, других готовили к виртуозному убийству друг друга в течение многих лет. На протяжении сотен лет в руки римлян в их нескончаемых военных походах попадали целые армии военнопленных, и многие тысячи этих несчастных были обречены окончить свой жизненный путь на арене ради увеселения публики или сначала отправлялись на подготовку в императорские фехтовальные школы. На раннем этапе именно эта «военная добыча» использовалась в первую очередь для гладиаторских игр. От периода Империи до нас дошли сведения о том, как пленные варвары группами сражались друг против друга, например даки и свевы при Августе или британцы на играх в честь британского триумфа при Клавдии в 44 г. Этой удобной возможностью устранить пленных врагов при помощи гладиаторских игр в амфитеатре воспользовался и римский император Тит после разрушения Иерусалима в 70 г. н. э. Часть пленных евреев старше 17 лет он отправил на египетские рудники, где они погибли от непосильной работы. Но большинство пленных он подарил провинциям для гладиаторских игр и звериной травли. Таким же образом он приказал сразу уничтожить крупные группы военнопленных в Кесарии Филиппа и Берите. «Более 2500 составило число тех, кто погиб отчасти в поединке с животными, отчасти на костре, отчасти в поединках друг против друга», — сообщает переметнувшийся на сторону римлян иудейский историк Иосиф Флавий (37-100 гг. н. э.) в своей «Истории Иудейской войны». «Но, несмотря на все эти и другие бесчисленные виды смерти, которые претерпевали иудеи, наказание восставших казалось римлянам все еще недостаточно тяжелым». Даже римский император Константин Великий, даровавший в 313 г. Миланским эдиктом защиту и равноправие христианам, остался верен этой жестокой практике. Он повелел бросить на съедение диким зверям побежденных бруктеров, «которые из-за своего коварства так же непригодны к воинской службе, как из-за дикости к рабской службе», в таком количестве, что те вскоре устали терзать их и потеряли всякую охоту. В панегириках императору превозносили то, что «он использовал массовое уничтожение врагов для всеобщего удовольствия. Что могло быть прекраснее этого триумфа?» Приговоренные к борьбе на аренеВ императорскую эпоху возник обычай принуждать преступников, совершивших тяжкие преступления и осужденных за убийство или разбой, поджог или осквернение храма, государственную измену или военный мятеж, к участию в гладиаторских играх. Это осуждение «к мечу» — ad gladium — и «диким зверям» считалось жестоким видом казни. Осужденные или убивали друг друга на арене, или просто уничтожались гладиаторами, зачастую не имея никакого оружия. Такую массовую казнь, устроенную по повелению иудейского царя Агриппы в новом амфитеатре в Берите (Бейруте), Иосиф Флавий описывает в «Иудейских древностях» следующим образом: правитель «повелел выставить друг против друга две когорты по 700 человек. На этот бой в наказание были собраны все преступники, которые только имелись, и таким образом… злодеи были уничтожены все сразу». Во времена гонений на христиан в число лиц, совершивших тяжкие преступления, попадало много христиан, отказывавшихся воздавать императору божественные почести и считавшихся поэтому явными анархистами и государственными изменниками. Иногда их наказывали розгами, иногда осуждали «на бой на арене», иногда бросали на растерзание диким зверям. Таких мучеников, предпочитавших смерть отказу от веры, обычно столь благожелательный император Марк Аврелий (121–180 гг. н. э.) укорял за «голую воинственность» и «театральность». Этим отношением объясняется решение императора по поводу запроса наместника Лугдунской Галлии о том, может ли тот обращаться с осужденными христианами так, как было предложено. В этом сообщении речь шла о верховном жреце галльских провинций, который горько сетовал на то, что обязанность устраивать дорогостоящие гладиаторские игры скоро разорит его из-за постоянных высоких расходов. Где же ему при таком безденежье брать людей, необходимых для принесения в жертву по старому галльскому ритуалу? Император подсказал ему выход. Он уполномочил своего галльского наместника продавать верховному жрецу «преступных» христиан по цене шесть золотых монет за каждого. Несчастных, которые и без того уже подверглись ужасным жестокостям со стороны населения, бросали теперь с разрешения императора на растерзание диким зверям или, если они были римскими гражданами, обезглавливали. Другую группу преступников, осужденных к принудительным работам на рудниках или в каменоломнях, где едва ли кто выживал, в императорскую эпоху часто обрекали на обучение в гладиаторских школах — ad ludum, если они были пригодны для поединков на арене. Оба вида наказания были связаны с утратой свободы и считались одинаково суровыми. И тем не менее многие считали осуждение ad ludum более мягким, ибо счастливчику и виртуозу своего кровавого ремесла все же светила искорка надежды на то, что после двух лет гладиаторской школы и последующих трех лет гладиаторской службы он сможет выжить. Дело в том, что им предоставлялась возможность за эти три года «сражаться добровольно». В знак освобождения от выступления на арене они получали rudis — деревянную шпагу. А через пять лет они могли приобрести даже колпак (pileus) как символ полного освобождения. Но в период ранней Империи такие льготы, вероятно, не действовали. Представление о судьбе таких преступников, приговоренных к гладиаторской службе и аналогичным наказаниям, дает случай, о котором идет речь в переписке императора Траяна (98-117 гг. н. э.) и Плиния Младшего.[23] Будучи наместником Вифинии и Понта, в северной части Малой Азии, Плиний Младший узнал, что во многих городах, особенно в Никомедии и Никее, некоторые из этих преступников служат как городские рабы и даже получают жалованье, хотя их помилование не удостоверено проконсулами или легатами:[24] «Предать наказанию спустя долгое время людей, в большинстве уже старых и живущих, как утверждают, скромно и честно, мне казалось слишком суровым, а держать на городской службе осужденных я считал недопустимым: кормить их на городской счет, не давая им никакого дела, по-моему, убыточно, а не кормить опасно». Но с таким решением император не согласился и потребовал более жесткого обращения, что по тогдашним меркам никоим образом не воспринималось как несправедливость: «Будем помнить, что ты затем и прислан в эту провинцию, что в ней обнаружилось много такого, что следует улучшить. Надо особенно заняться тем, чтобы исправить такое положение вещей, при котором люди, присужденные к наказанию, не только освобождены, как ты пишешь, неизвестно кем, но и поставлены в положение честных служителей. Тех, кто был осужден в течение десяти последних лет и освободился без всякого законного основания, надлежит предать наказанию; если найдутся люди пожилые и старики, осужденные до этих десяти лет, распределим их по тем работам, которые недалеки от наказания. Обычно таких людей назначают в бани, на очистку клоак, а также на замащивание дорог и улиц». На гладиаторскую службу отправляли насильно не только явных преступников, но иногда и невинных или несправедливо осужденных. Такие злоупотребления во времена Республики, вероятно, довольно часто и в широких масштабах допускали некоторые наместники провинций. Как утверждал Цицерон (106-43 гг. до н. э.), например, проконсул Македонии Л. Пизон Цезоний заставлял многих безвинно осужденных сражаться с дикими животными, а Л. Корнелий Бальб-младший, будучи квестором[25] в Испании в 44–43 гг. до н. э., травил хищниками и римских граждан, в том числе и одного лишь за его уродливость. Если людей для арены не хватало, то даже императоры произвольно нарушали законы, регулировавшие осуждение на гладиаторскую службу. Светоний, римский историк II в. н. э., пишет в своем биографическом труде «Жизнь двенадцати цезарей» о Клавдии (41–54 гг. н. э.) следующее: «Природная его свирепость и кровожадность обнаруживалась как в большом, так и в малом. Пытки при допросах и казни отцеубийц заставлял он производить немедля и у себя на глазах. Однажды в Тибуре он пожелал видеть казнь по древнему обычаю;[26] преступники были уже привязаны к столбам, но не нашлось палача; тогда он вызвал палача из Рима и терпеливо ждал его до самого вечера. На гладиаторских играх, своих или чужих, он всякий раз приказывал добивать даже тех, кто упал случайно, особенно же ретиариев: ему хотелось посмотреть в лицо умирающим. Когда какие-то единоборцы поразили друг друга насмерть, он тотчас приказал изготовить для него из мечей того и другого маленькие ножички». Плиний Старший утверждал, что мясо дичи, убитой ножом, от которого погиб человек, излечивает эпилепсию, которой страдал и Клавдий. «Звериными травлями и полуденными побоищами увлекался он до того, что являлся на зрелища ранним утром и оставался сидеть, даже когда все расходились завтракать. Кроме заранее назначенных бойцов он посылал на арену людей по пустым и случайным причинам, например рабочих, служителей и тому подобных, если вдруг плохо работала машина, подъемник или еще что-нибудь. Однажды он заставил биться даже одного своего раба-именователя, как тот был, в тоге». В другом месте Светоний сообщает, что Клавдий с величайшим усердием выступал в качестве судьи: «Не всегда он следовал букве законов и часто по впечатлению от дела умерял их суровость или снисходительность милосердием и справедливостью. Так, если кто в гражданском суде проигрывал дело из-за чрезмерных требований, тем он позволял возобновлять иск; если же кто был уличен в тягчайших преступлениях, тех он, превышая законную кару, приказывал бросать диким зверям». Такие опрометчивые приговоры, значительно превышавшие строгую законность, выносились, по-видимому, довольно часто, ибо число преступников, осужденных к выступлениям на арене, было удивительно велико. Наглядным примером служит корабельная баталия, которую устроил Клавдий в 52 г. н. э., перед тем как осушить Фуцинское озеро. На этих строительных работах по прокладке канала через гору было постоянно занято 30 000 человек. И все же канал после многих трудностей был построен только через 11 лет; его строили с 42 по 53 год. Император воспользовался последней возможностью и устроил на еще полном Фуцинском озере битву двух флотилий с 19 000 вооруженных воинов на борту, которую Светоний описывает следующим образом: «Но когда бойцы прокричали ему: «Здравствуй, император, идущие на смерть приветствуют тебя!» — он им ответил: «А может, и нет», — и, увидев в этих словах помилование, все они отказались сражаться. Клавдий долго колебался, не расправиться ли с ними огнем и мечом, но потом вскочил и, противно ковыляя, припустился вдоль берега с угрозами и уговорами, пока не заставил их выйти на бой. Сражались в этом бою сицилийский и родосский флот, по двенадцати трирем каждый, а знак подавал трубою серебряный тритон, с помощью машины поднимаясь из воды». Римский историк Тацит (около 56-118 гг. н. э.) пишет в своих «Анналах», что все 19 000 человек были осужденными. Если даже предположить, что их собрали в Италию из всех провинций, то все равно столь большое число вызывает подозрение, что все приговоры были вынесены справедливо. Как скот на продажуВ гладиаторы весьма часто попадали и рабы — как в Риме, так и в остальных городах мировой Римской державы. В конце существования Республики целые группы гладиаторов входили обычно в военные отряды знати, состоявшие из рабов. Использовали их по-разному: как личную охрану господина или как bravi, т. е. наемных или профессиональных убийц, а также как смертников, сражавшихся на зрелищах, устраиваемых их господином или кем-то другим, для кого владелец сдавал их за деньги, как цирковых лошадей или медведей. Впрочем, для тех, кто сдавал их внаем, это была блестящая сделка, как явствует из замечания Цицерона о труппе гладиаторов его друга Аттика, купленной тем в 56 г. до н. э. Узнав, что они великолепно сражаются, Цицерон решил, что Аттик, сдав гладиаторов внаем, мог бы вернуть свои деньги уже после двух представлений. Со слов Цицерона мы знаем, что и Цезарь (100-44 гг. до н. э.) содержал собственную труппу гладиаторов. Так же как и Цезарь, многие представители тогдашней знати в Капуе, да и в других городах, имели собственные школы, в которых обучались сотни гладиаторов. Старейшая школа в Капуе принадлежала, вероятно, Гаю Аврелию Скавру, который в 105 г. до н. э. с помощью своих преподавателей обучал искусству фехтования легионы консула Рутилия. Дурной славой три десятилетия спустя пользовалась знаменитая школа Гн. Лентула Батиата, после того как из нее в 73 г. до н. э. бежало около 70 гладиаторов под руководством Спартака; этот побег вызвал мощнейшую войну рабов, повергшую Римскую империю в страх и ужас. Наряду со знатью гладиаторские труппы, состоявшие из рабов, имели и богатые семьи, уважаемые мужи и даже женщины, например некая Гекатея на острове Фасос. Иногда даже легионы имели собственных гладиаторов, которые выступали в амфитеатрах в местах их расквартирования. Наряду с другой собственностью такие гладиаторские труппы переходили путем продажи или аукционных торгов из рук в руки, как скот или, так же как в наши дни, футболисты и другие спортсмены. Император Калигула буквально озолотился на таких аукционах, ибо он вынуждал консулов и преторов покупать по головокружительным спекулятивным ценам бойцов, оставшихся в живых после устраиваемых им зрелищ. Наглядное описание таких финансовых операций алчного императора нам оставил Светоний: «Торги он устраивал, предлагая для распродажи все, что оставалось после больших зрелищ, сам назначал цены и взвинчивал их до того, что некоторые, принужденные к какой-нибудь покупке, теряли на ней все свое состояние и вскрывали себе вены. Известно, как однажды Апоний Сатурнин задремал на скамьях покупщиков, и Гай посоветовал глашатаю обратить внимание на этого бывшего претора, который на все кивает головой; и закончился торг не раньше, чем ему негаданно были проданы тринадцать гладиаторов за девять миллионов сестерциев».[27] В I в. н. э. господин мог без всяких ограничений продавать своих рабов в гладиаторы для смертельных боев на арене. Один из таких случаев описывает Светоний в жизнеописании римского императора Вителлия, правившего всего лишь несколько месяцев в 69 г. н. э.: «…он стал властвовать почти исключительно по прихоти и воле самых негодных актеров и возниц, особенно же отпущенника Азиатика. Этого юношу он опозорил взаимным развратом; тому это скоро надоело, и он бежал; Вителлий поймал его в Путеолах, где он торговал водой и уксусом, заковал в оковы, тут же выпустил и снова взял в любимчики; потом, измучась его строптивостью и вороватостью, он продал его бродячим гладиаторам, но, не дождавшись конца зрелища и его выхода, опять его у них похитил. Получив назначение в провинцию, он наконец дал ему вольную…» И только Адриан, римский император, правивший со 117 по 138 г. н. э., «запретил продавать без объяснения причин раба или служанку своднику или содержателю гладиаторской школы», как об этом сказано в сборнике «Писатели истории Августов». Уже раньше аналогичный запрет, изданный, вероятно, во времена Августа, поставил продажу рабов для использования их в звериных травлях в зависимость от приговора суда. Император Макрин (217–218 гг. н. э.), который, между прочим, велел замуровывать живых людей в стенах домов, а уличенных в прелюбодеянии, связав их вместе, сжигать заживо, обращался особенно жестоко и с рабами, которые бежали от своего господина и были вновь схвачены. Им была сразу уготована только участь гладиаторов. Особенно ценимые — свободные бойцы«Вот, например, угостят нас на праздниках, в течение трех дней, превосходными гладиаторскими играми; выступит не какая-нибудь труппа ланистов, а несколько настоящих вольноотпущенников» — такие слова вкладывает Петроний, римский бытописатель, любимец Нерона, в уста лоскутника Эхиона («Пир Трималхиона»). От добровольцев, были ли они вольноотпущенниками или свободнорожденными, ожидали более ожесточенного боя, чем от принуждаемых гладиаторов, вероятно, потому, что они бросались на противника с большими яростью, страстью и подъемом. Среди вольноотпущенников (бывших рабов) были и те, которые прежде выступали в качестве гладиаторов. Если им удавалось выжить на своей «службе», что случалось довольно редко, и получить вольную, то они по собственному желанию могли вновь заняться своей бывшей профессией. Иногда, правда, они продолжали бои на арене и по желанию своих господ. В конце Республики, а еще чаще в последовавшую за ней императорскую эпоху ланисты стали нанимать свободнорожденных, причем те давали страшную клятву бойцов-добровольцев о том, что их можно «жечь, вязать, сечь и казнить мечом». Тот, кто унижал себя до такого состояния, принадлежал чаще всего к категории социально отверженных, гонимых нуждой, отчаянием и другими жизненными невзгодами. Но и те, кто раз оступились и не могли уже включиться в нормальную жизнь, видели в школе гладиаторов и арене свое последнее пристанище. Кроме того, и радость грубой силы побуждала кое-кого хвататься за орудие убийства, так что среди добровольцев было и немало доблестных и отважных рубак и искателей приключений, которые скучали от монотонности «Рах Romana», не находили в нем применения способностям и стремились потешить себя, занявшись боевым ремеслом гладиатора. «Скольких же бездельников страсть к оружию соблазняет наниматься на гладиаторскую службу!» — восклицает Тертуллиан, христианский писатель, живший около 200 г. н. э. Сюда же можно причислить и группу воинов, которых император Септимий Север (193–211 гг. н. э.) уволил из своей преторианской гвардии. Это были италийцы, которым запрещалось в дальнейшем служить в гвардии. Некоторые из этих воинов, оказавшись на улице, опустились и стали промышлять разбоем, другие добровольно подались в школы гладиаторов. В риторических школах, — так сказать, «университетах» Римской империи — в качестве тем для декламации охотно выбирали чувствительные сюжеты о том, почему свободнорожденный продал себя в гладиаторы. Так, например, рассказывали душещипательную историю одного благородного юноши, который завербовался в гладиаторы, с тем чтобы полученными деньгами оплатить погребение своего отца. Похожие романтические мотивы приводит в своем очерке-диалоге «Токсарид» философ Лукиан Самосатский. В Амастрии (Амасре), на побережье Черного моря, скиф Сисинн изъявил готовность сразиться в поединке с гладиатором за 10 000 драхм,[28] с тем чтобы вызволить своего друга из нищеты. К таким слащавым рассказам, практиковавшимся в риторических школах, вряд ли можно относиться серьезно, хотя, безусловно, иногда попадались отдельные неудачники, которые, не имея никаких других средств к существованию, вступали в школу гладиаторов из благородных побуждений. Свободный гражданин, нанимавшийся на гладиаторскую службу, должен был в присутствии нанимателя сделать перед народным трибуном соответствующее заявление, причем одновременно устанавливалась и цена за его выступление. По указу императора Марка Аврелия (161–180 гг. н. э.) такому добровольцу причиталось не более 200 сестерциев, т. е. мизерная сумма. При помощи столь низкого тарифа, выплачивавшегося лишь самым заурядным гладиаторам, пытались удержать более достойных граждан, оказавшихся в трудном положении, от этого отчаянного шага. Общественное положение такого auctoratus, как называли вольнонаемных гладиаторов, было аналогично положению раба, о чем свидетельствует и приведенный выше текст клятвы. Он признавал тем самым право своего господина и «работодателя» распоряжаться его жизнью и смертью в течение всего срока службы. Но тем не менее он мог вновь выкупить себя досрочно и даже до того, как вообще начинать поединки. Если в течение договорного срока он оставался живым, то в качестве признания он получал особое вознаграждение. Он вновь становился свободным, но, разумеется, мог и вторично наняться на гладиаторскую службу, причем в этом случае за его выступление по тарифу, установленному Марком Аврелием, выплачивалось уже до 12 000 сестерциев. Граничившую с чудом сноровку в искусстве выживания продемонстрировал гладиатор-вольноотпущенник Публий Осторий в Помпеях, одержавший (если верить его собственным словам) победу в 51 поединке. В этой связи неудивительно, что ушедшие на покой заслуженные гладиаторы пользовались спросом, ибо тот, кто годами противостоял смерти на арене, должен был быть настоящим рубакой. И для того чтобы уговорить таких ветеранов выступить хотя бы в одном-единственном поединке, император Тиберий (14–39 гг. н. э.) был вынужден как-то предложить 1000 золотых монет. Учитывая то, что у гладиаторов-добровольцев была более высокая репутация, чем у их подневольных соперников, появлялся соблазн хитростью и силой принуждать «добровольцев» заняться кровавым ремеслом. Сенека Старший[29] сообщает, что уже в начале Империи раздавались жалобы на бессовестность некоторых богатых граждан, которые, пользуясь неопытностью молодых людей, обманным путем заманивали в гладиаторские школы как раз самых красивых и пригодных к несению воинской службы юношей. До нас дошло множество свидетельств о случаях, когда высокопоставленные лица злоупотребляли властью для того, чтобы заставить своих приближенных выступать в поединках на арене. Так, пресловутый Луций Корнелий Бальб, квестор испанского города Гадеса (Кадиса) в 44–43 гг. до н. э., дважды пытался заставить римского гражданина Фадия участвовать в гладиаторских боях. А когда Фадий отказался и народ взял его под защиту, рассерженный магистрат повелел галльским всадникам сечь его, а затем заживо сжечь в гладиаторской школе. Удовольствие от такого насилия и противоестественной жестокости испытывал, разумеется, и император Калигула. Так, Светоний описывает страшную участь, постигшую Эзия Прокула, сына одного из старших центурионов. За большой рост и необыкновенную красоту его прозвали Колосс-Эрот, т. е. Великан Эрот, потому что он был сильным, как великан, и прекрасным, как бог любви Эрот. Из чувства зависти и ревности во время представления в амфитеатре Калигула «вдруг приказал согнать его с места, вывести на арену, стравить с гладиатором легковооруженным, потом с тяжеловооруженным, а когда тот оба раза вышел победителем — связать, одеть в лохмотья, провести по улицам на потеху бабам и, наконец, прирезать». Калигула не раз заставлял биться на арене множество граждан. По словам Светоыия, «на гладиаторских играх иногда в палящий зной он убирал навес и не выпускал зрителей с мест; или вдруг вместо обычной пышности выводил изнуренных зверей и убогих, дряхлых гладиаторов, а вместо потешных бойцов — отцов семейства, самых почтенных, но обезображенных каким-нибудь увечьем». Когда император как-то заболел, то нашлись люди, «которые давали письменные клятвы биться насмерть ради выздоровления больного или отдать за него свою жизнь… От человека, который обещал биться гладиатором за его выздоровление, он потребовал исполнения обета, сам смотрел, как он сражался, и отпустил его лишь победителем, да и то после долгих просьб. Того, кто поклялся отдать жизнь за него, но медлил, он отдал своим рабам — прогнать его по улицам в венках и жертвенных повязках, а потом во исполнение обета сбросить с раската. Многих граждан из первых сословий он, заклеймив раскаленным железом, сослал на рудничные или дорожные работы, или бросил диким зверям, или самих, как зверей, посадил на четвереньках в клетках, или перепилил пополам пилой — и не за тяжкие провинности, а часто лишь за то, что они плохо отозвались о его зрелищах или никогда не клялись его гением». Этот гений — бог-покровитель императора — косвенно защищал и всю империю. Уклонение от клятвы могли истолковать и как государственную измену, и это считалось одним из преступлений, за которые позже преследовались христиане. Стремясь заклеймить позором жестокость Калигулы, Светоний рассказывает наряду с прочими садистскими действиями и об участи одного римского всадника:[30] «…брошенный диким зверям, он не переставал кричать, что невинен; он (император) вернул его, отсек ему язык и снова прогнал на арену». Постоянно осуждая всадническое сословие за его пристрастие к театру и гладиаторским боям, он с особым удовольствием заставлял как можно больше всадников и сенаторов выступать в поединках на арене. Это все больше воспринималось как скандал, а Вителлий, правивший в 69 г. н. э., позаботился четверть века спустя о том, чтобы одной из своих немногих мер по восстановлению порядка устранить это возмущение. Вот что пишет об этом Тацит: «Строго стали следить за тем, чтобы римские всадники не участвовали в гладиаторских играх на арене и не унижали свое достоинство. Бывшие правители принуждали к такому позорному действию с помощью денег, а еще чаще силой, да и некоторые города и селения состязались в том, чтобы привлечь для этих целей деньгами всех опустившихся молодых людей». Уже Август в 38 г. до н. э. запретил сенаторам, а немного позже, возможно, и всадникам выступать в качестве гладиаторов, правда без особого успеха. Ибо девять лет спустя на арене вновь появился сенатор, а в 11 г. н. э. пришлось отменить запрет для всадников. Представители знати и граждане, добровольно Избравшие карьеру гладиатора, постоянно становились мишенью для возмущения, упреков и насмешек моралистов и сатириков. Выступление на арене вызывало, особенно у представителей высших сословий, по крайней мере такое же возмущение, как выступление в качестве актера: они пятнали своим позорным поведением имя своих предков, когда-то покоривших мир. Во время одной из игр, устроенных Цезарем, патриций и адвокат, бывший до этого сенатором, до тех пор наносили удары друг другу, пока оба не упали замертво. Луций, брат римского полководца Марка Антония (82–30 гг. до н. э.), выступавший в Малой Азии гладиатором и обычно перерезавший своим противникам горло, был вынужден не раз сносить обидные насмешки Цицерона в свой адрес. Во время правления обоих первых римских императоров в гладиаторских боях также участвовали члены знатных семей. О том, какое низкое положение занимал в обществе гладиатор-доброволец, красноречиво свидетельствует документ, составленный в последние годы существования Республики. В нем гражданин города Сассины (Меркато Карачено) распорядился о том, чтобы на кладбище, которое он подарил жителям города, не хоронили тех, кто нанялся за вознаграждение в гладиаторы, лишил себя жизни через повешение или занимался грязным ремеслом. «Смейся тому, как, оружье сложив, она кубок хватает»«Зрелища он устраивал постоянно, роскошные и великолепные, и не только в амфитеатре, но и в цирке. Здесь кроме обычных состязаний колесниц четверкой и парой он представил два сражения, пешее и конное, а в амфитеатре еще и морское. Травли и гладиаторские бои показывал он даже ночью при факелах, и участвовали в них не только мужчины, но и женщины». На одном из праздников в декабре он выставил даже женщин против карликов. Нужны были все новые мерзости для того, чтобы щекотать притупившиеся нервы зрителей, бедных или богатых, благородного или низкого происхождения. Выступление женщин-гладиаторов, о котором упоминает Светоний в жизнеописании императора Домициана (81–96 гг.), уже в то время не считалось чем-то новым. Еще при Нероне (54–68 гг.), который «заставил сражаться даже 400 сенаторов и 600 всадников, многих — с нетронутым состоянием и незапятнанным именем», в цирке устраивались кровавые бои женщин-гладиаторов, в которых участвовали даже женщины из почтенных семейств, как пишет об этом Тацит в своих «Анналах», что считалось особенно позорным. На девятом году правления Нерона эти омерзительные женские поединки приняли прямо-таки возмутительные масштабы. В честь армянского правителя Тиридата, посетившего Италию, в 66 г. в Путеолах (Поццуоли) были устроены даже одновременно выступления африканских гладиаторов обоего пола. Поэт Ювенал (ок. 60-140 гг. н. э.), описывая в своих сатирах испорченные нравы Рима, с насмешкой вопрошал: Кто на мишени следов не видал от женских ударов?
Колет ее непрерывно ударами, щит подставляя,
Все выполняя приемы борьбы, — и кто же? — матрона!
Ей бы участвовать в играх под трубы на празднике Флоры;
Вместо того не стремится ль она к настоящей арене?
Разве может быть стыд у этакой женщины в шлеме,
Любящей силу, презревшей свой пол? Однако мужчиной
Стать не хотела б она: ведь у нас наслаждения мало.
Вот тебе будет почет, как затеет жена распродажу:
Перевязь там, султан, наручник, полупоножи
С левой ноги; что за счастье, когда молодая супруга
Свой наколенник продаст, затевая другие сраженья!
Этим же женщинам жарко бывает и в тонкой накидке.
Нежность их жжет и тонкий платок из шелковой ткани.
Видишь, с каким она треском наносит мишени удары,
Шлем тяжелый какой ее гнет, как тверды колени,
Видишь плотность коры у нее на коленных повязках.
Смейся тому, как, оружье сложив, она кубок хватает.
Лепида внучки, Метелла слепого иль Фабия Гурга!
Разве какая жена гладиатора так наряжалась?
Разве Азила жена надрывалась вот так у мишени?
Только в 200 г., когда состоялось особенно много поединков женщин-гладиаторов, было запрещено женщинам выступать в качестве бойцов, что явилось заслугой просвещенных юристов, а вовсе не правившего в то время императора Септимия Севера. Школа-тюрьмаШколы гладиаторов с их жестокими наказаниями были похожи более на тюрьмы, чем на центры обучения боевому искусству. В тесноте, в отвратительных каморках без окон, площадью три-четыре квадратных метра жили и спали по двое. Это показывают и остатки казармы гладиаторов, раскопанной в Помпеях и принятой сначала ошибочно за солдатскую казарму или рынок. Найденные на месте раскопок визирные шлемы, которые носили только гладиаторы, однозначно свидетельствуют о том, что здание использовалось как школа гладиаторов; об этом же говорят надписи и изображения гладиаторов, нацарапанные на колоннах и стенах, затем объявления о гладиаторских играх на внешней стене, а также два рисунка, на которых в качестве трофеев изображено оружие гладиаторов. Вокруг прямоугольной площади размером 56х45 метров первоначально располагались два больших зала, кровли которых поддерживали 74 дорические колонны. Помимо тюрьмы и большой кухни, а также многочисленных других помещений на двух этажах здания друг над другом размещались темные, сырые и грязные каморки (их было 71), в которых жили гладиаторы. Извержение Везувия в 79 г. н. э., сопровождавшееся градом камней и тучами пепла, потоками лавы и лавинами грязи, а также выбросами ядовитых сернистых газов, застало врасплох в этой казарме гладиаторов перед театром в Помпеях 62 мужчин и одну женщину, знатную даму, которая, возможно, именно в этот момент хотела выразить герою арены свое восхищение. Так смерть одним ударом поразила гладиаторов, еще не успевших выйти на арену на свой последний поединок! Древнейшие известные нам гладиаторские школы были основаны в Капуе в период Республики. Еще до окончания этого периода такая школа возникла и в Риме, и римский поэт Гораций (65-8 гг. до н. э.) упоминает Ludus Aemilius. Вскоре все ведущие учебные заведения в Риме оказались исключительно во владении императора. Четыре наиболее часто упоминаемые окружали амфитеатр Флавиев: Большая школа, Галльская школа, Дакийская школа, а также особое место для подготовки к звериным травлям. Среди обширных построек находились оружейный склад, кузница и морг. В многочисленный управленческий персонал входили преподаватели, оружейники, врачи, массажисты, могильщики, учетчики и надзиратели. Этот многочисленный аппарат подчинялся управляющим, высокопоставленным чиновникам, иные из которых были в ранге прокураторов из всаднического сословия. Но императорские гладиаторские школы существовали и за пределами Рима, в Италии, как уже упоминалось, в Капуе, а затем в Равенне и Пренесте (Палестрина), а также за ее пределами — в Александрии и Пергаме (Бергамаль). Все они располагались в местностях с благоприятным климатом, ибо здоровье и самочувствие обреченных на смерть укрепляли силу и боевой дух во время поединка на арене. Вероятно, помимо этого существовали еще и другие школы во многих других римских провинциях Европы и Азии. Но только хорошего воздуха недостаточно для поддержания здоровья — для этого необходимо и тщательно сбалансированное питание. Тому, кто в поединке должен искусно биться не на жизнь, а на смерть, нужна большая мускульная сила. В гладиаторских школах средством, особенно наращивающим мускулатуру, считался ячмень, поэтому он занимал в меню приоритетное место. Именно этому гладиаторы были обязаны насмешливым прозвищем hordearii, т. е. питающиеся ячменем. Медики строго следили за тем, чтобы предписанные продукты точно отпускались, готовились в соответствии с инструкцией и доставлялись гладиаторам. По словам Сенеки, гладиатор «за пищу и питье платит кровью». Если же ячменную крупу смешивали с толчеными бобами, как это ежедневно происходило в школе Пергама, то мускулы и ткани становились вялыми, а не крепкими и сильными, как критически говорил об этом во II в. н. э. врач Гален Пергамский, который, будучи молодым человеком, пользовал гладиаторов. Современник Цицерона, энциклопедист Варрон, утверждает, что после упражнений в случае необходимости гладиаторам давали напиток из щелочной золы, который будто бы целительно воздействовал на внутренности, задетые ударом или уколом. Опытные хирурги заботливо лечили страшные ранения, которые наносили гладиаторы друг другу. Упомянутый выше Гален Пергамский, один из знаменитейших медиков своего времени, ставший позже личным врачом Марка Аврелия, настоятельно подчеркивает, что благодаря его уходу и методам лечения удалось существенно понизить смертность среди бойцов. Физическую пригодность и высочайшую боеготовность гладиаторов обеспечивали и опытные массажисты школы, которые регулярно натирали тело бойцов маслом. Страшная жестокость и самоубийства отчаявшихсяТот, кто при найме приносил клятву, в которой выражал свое согласие с тем, что его можно «жечь, вязать, сечь и убить мечом», уже при этом получал первое представление о жестоких и бессердечных нравах, царивших в казармах гладиаторов. Нарушителей строгого порядка или возмутителей спокойствия секли, жгли раскаленным железом и заковывали в цепи, если не казнили. Мучения закованных в цепи заключенных можно себе представить, заглянув в тюрьму помпейской гладиаторской школы. В низкой камере, в которой можно было только лежать или сидеть, была найдена цепь, к которой за ноги приковывалось по десять заключенных. При раскопках наткнулись на четыре скелета бывших заключенных, которые, правда, не были прикованы за ноги этой цепью. Для поддержания дисциплины в этих тренировочных центрах смертников, разумеется, были необходимы эффективные меры наказания, ибо эта беспорядочно подобранная толпа лихих молодцов полностью или большей частью состояла из преступников, военнопленных, рабов или отчаявшихся. А поскольку им была уготована участь жертв арены и терять им было нечего, они пытались выиграть все, а именно жизнь, всякий раз, как только для этого появлялась возможность. Но такая благоприятная возможность представлялась по воле случая редко, ибо из-за общего страха перед восстаниями гладиаторы не могли иметь в казармах оружие. Они жили в более или менее строгом заключении под охраной надзирателей, а в императорских школах — под охраной солдат. И все же часто вспыхивали заговоры, бунты и побеги с применением силы. Бегство Спартака и его примерно 70 сотоварищей из школы в Капуе в 73 г. до н. э. представляет собой наиболее известный пример подобного рода, повлекший за собой тягчайшие последствия. Расправившись с охраной, им действительно удалось бежать, вооружиться и длительное время уходить от преследователей. В 64 г. н. э. «гладиаторы в городе Пренесте попытались вырваться на свободу, но были усмирены приставленной к ним воинской стражей; а в народе, жаждущем государственных переворотов и одновременно трепещущем перед ними, уже вспоминали о Спартаке и былых потрясениях», — пишет Тацит. Немногим лучше пришлось и 80 гладиаторам во время правления императора Проба (276–282 гг.). Правда, им сначала удалось вырваться из школы в Риме, предварительно расправившись с охраной, но затем они погибли после отважного сопротивления в бою с отрядом солдат, который преследовал их по приказу императора. Лишь очень редко становилось широко известно о пытках и других злодеяниях, творившихся в строго изолированных лагерях смертников. Уже упоминавшийся случай с римским гражданином Фадием, который не поддался нажиму квестора Бальба и отказался выступать на арене в качестве гладиатора, за что и был заживо сожжен в гладиаторской школе, можно рассматривать лишь как один из многих. Физические муки усиливались и душевными страданиями, особенно у людей чувствительных, которые по воле судьбы оказались среди этой массы грубых и отупевших, отверженных и униженных людей. Тому, кто видел лучшие времена, совместная жизнь с этой дикой ордой в величайшей тесноте и ежедневная муштра к последнему бою на арене казались вдвойне безнадежными. И даже если постыдная смерть, может быть, и не поджидала его в первом же бою, то он должен быть рассчитывать на то, чтобы быть убитым на ближайшем или на следующем цирковом представлении ради удовольствия кровожадной черни. Итак, стоило ли вообще пытаться изо всех сил выжить в обществе нищеты, подлости и пороков? Стоило ли жить ради такой жизни? Разве не стоило страстно желать окончания этого прямо-таки скотского прозябания как избавления? Страшная жестокость охранников и душевное напряжение каждого из этих загнанных несчастных людей накаляли атмосферу до предела. Эта накопившаяся ненависть гладиаторов неизбежно разряжалась, как вулкан, и направлялась на их охранников или против самих себя. Такие самоубийства не удавалось предотвратить ни строжайшей охраной, ни строгим запретом хранить у себя оружие, которым гладиаторы убивали друг друга на арене. Тот, кто хотел покончить с невыносимыми муками, находил другие средства и пути для того, чтобы перехитрить надсмотрщиков и исполнить свой замысел. Сенека описывает необычное самоубийство гладиатора: «Недавно, когда бойцов везли под стражей на утреннее представление, один из них, словно клюя носом в дремоте, опустил голову так низко, что она попала между спиц, и сидел на своей скамье, пока поворот колеса не сломал ему шею; и та же повозка, что везла его на казнь, избавила его от казни». Даже если до нас дошли лишь отдельные случаи такого самоубийства, то тем не менее они имели место. Симмах, живший в IV в. н. э. и ставший в 391 г. римским консулом, рассказывает в своем письме о массовом самоубийстве, превосходящем по своему ужасу все известные нам случаи. Выйдя в маленьких суденышках из Северного моря в Атлантику, воины-саксы напали на побережье Галлии. Часть пленных, попавших в руки римлян, должны были выступать в качестве гладиаторов на устраиваемых Симмахом играх. Но для того чтобы не допустить триумфа победителя на арене, 29 германских военнопленных, несмотря на строгую охрану, задушили друг друга руками, продемонстрировав тем самым свою гордость и превосходство даже в положении побежденных. Обучение по всем правилам искусства«Молодых бойцов он отдавал в обучение не в школы и не к ланистам, а в дома римских всадников и даже сенаторов, которые хорошо владели оружием; по письмам видно, как настойчиво просил он их следить за обучением каждого и лично руководить их занятиями» — так Светоний описывает ту необыкновенную заботу, с которой Юлий Цезарь следил за профессиональной подготовкой вновь приобретенных гладиаторов к боям на арене. Таким образом, Цезарь не удовлетворялся обычной подготовкой в школах, где для каждого вида вооружения имелись профессиональные и опытные ланисты. Тот, кого не просто, как скот на убой, выгоняли на арену без всякой тренировки — а и такое встречалось достаточно часто, — тот вначале проходил в гладиаторских казармах основательную выучку, а после ему преподавалось актерское мастерство, с которым виртуоз своего вида оружия приканчивал противника, что, естественно, возбуждало зрителей гораздо больше, чем неумелое убийство. То же мы имеем и в наши дни на примере боя быков. Кто из огромного числа охочих до этого зрелища зевак пойдет на бойню, чтобы посмотреть, как приканчивают быка? Начинали новобранцы с деревянного меча и упражнялись на столбе либо на чучеле, прежде чем получить тренировочное оружие, более тяжелое, чем то, с которым им предстояло выступать на арене. Эта подготовка проходила по всем правилам боевого искусства и с давних пор считалась образцовой. Как упоминалось выше, уже в 105 г. до н. э. консул П. Рутилий поручил ланистам из школы Г. Аврелия Скавра преподать легионерам «более изощренные приемы нанесения и отражения ударов». Публика отлично разбиралась в употреблявшихся тогда технических терминах и во время боев гладиаторов на арене выкрикивала команды учителей их ученикам, что порой немало помогало участникам боя. Взаимные острые реплики тяжущихся сторон в суде побудили римского оратора Квинтилиана (около 35-100 гг. н. э.) сравнить их с ударами гладиаторов, «вторые позиции которых становятся третьими, если первая была исполнена для того, чтобы спровоцировать противника на удар, и четвертыми, если уловка двойная, так что необходимо дважды парировать и дважды нанести удар». При обучении гладиаторов с ними обращались довольно жестоко, с тем чтобы вырастить их настоящими бойцами, способными не спасовать ни перед чем. Они не должны были отшатываться, если противник делал оружием выпад в лицо, что требовало особенной выдержки, об отсутствии которой у большинства членов гладиаторской школы Калигулы сокрушается римский ученый Плиний Старший. Особое значение придавалось способности сражаться левой рукой, о чем свидетельствуют соответствующие изображения гладиаторов с мечом в левой руке. Особенно хорошо владел этим искусством император Коммод (180–192 гг.). Снаряжение — на любой вкусВпрочем, странного нет в вельможном актере, когда сам
Цезарь кифару взял. Остались дальше лишь игры —
Новый для Рима позор. Не в оружьи хотя б мирмиллона,
Не со щитом выступает Гракх, не с клинком изогнутым;
Он не хочет доспехов таких, отвергает с презреньем,
Шлемом не скроет лица; зато он машет трезубцем;
Вот, рукой раскачав, висящую сетку он кинул;
Если врага не поймал, он с лицом открытым для взоров
Вдоль по арене бежит, и его не узнать невозможно:
Туника до подбородка, расшитая золотом, с крупной
Бляхой наплечной, с которой висит и болтается лента.
Даже секутор, кому приказано с Гракхом сражаться,
Худший позор при этом несет, чем рана любая.
Такими насмешками римский сатирик Ювенал (ок. 60-100 гг. н. э.) осыпает потомка рода Гракхов, двое из которых[33] вошли когда-то в историю как народные трибуны. Но не только само выступление нынешнего Гракха на арене он рассматривает как оскорбление чести сословия; гораздо отвратительнее то, что этот добровольный гладиатор предстает не в качестве тяжеловооруженного мирмиллона, но мечется все время полуголым ретиарием. На основании одних только этих строк видно, что гладиаторы различались снаряжением, пользовавшимся у публики различной популярностью. Одни болели за тот, другие — за иной род оружия, а порой восхищение перехлестывало через край и превращалось в спор или стычку между приверженцами разных типов гладиаторов. Постоянно ведшиеся Римом войны порождали массы пленных, которых толпами принуждали участвовать в кровавой резне на потеху публике. Со времен Республики иноземных участников человеческой гекатомбы заставляли биться друг с другом не только в их экзотических, часто живописных одеждах, но и с их собственным оружием и по их обычаям. С этими особенностями разноплеменных бойцов связано появление некоторых категорий профессиональных гладиаторов, таких, как самниты, фракийцы или галлы. 
Гладиаторы из Помпей Самниты, прикрывавшиеся большим щитом в человеческий рост, бились короткими, прямыми мечами либо копьями. Кроме того, они были защищены поножью на левом бедре, а справа зачастую — наголенником; фартуком с поясом и повязкой на правой руке. Лицо прикрывал большой шлем с прорезями, бросавшийся в глаза своими широкими полями и огромным гребнем с султаном. Все вместе создавало впечатление великолепного тяжелого вооружения. Защитой фракийцам также служили закрывавший лицо шлем и наручень на правой руке. Оружием нападения у них были серповидный меч либо кривой кинжал, а от ударов противника они защищались маленьким круглым или квадратным щитом. В противоположность самнитам, с которыми они порой скрещивали клинки, у них было две поножи. Император Калигула принадлежал к приверженцам именно этого типа гладиаторов. Он сам был, как сообщает Светоний, «гладиатор и возница, певец и плясун… Нескольких гладиаторов-фракийцев он поставил начальниками над германскими телохранителями; гладиаторам-мирмиллонам он убавил вооружение, а когда один из них, по прозванию Голубь, одержал победу и был лишь слегка ранен, он положил ему в рану яд и с тех пор называл этот яд «голубиным» — по крайней мере так он был записан в списке его отрав». Как нам известно от Светония, император Тит (79–81 гг.) также был поклонником фракийцев: «От природы он отличался редкостной добротой… К простому народу он всегда был особенно внимателен. Однажды, готовя гладиаторский бой, он объявил, что устроит его не по собственному вкусу, а по вкусу зрителей. Так оно и было; ни в какой просьбе он им не отказывал и сам побуждал их просить, что хочется. Сам себя он объявил поклонником гладиаторов-фракийцев, из-за этого пристрастия нередко перешучивался с народом и словами и знаками, однако никогда не терял величия и чувства меры. Даже купаясь в своих банях, он иногда впускал туда народ, чтобы и тут не упустить случая угодить ему». Тип снаряжения римских гладиаторов, именовавшийся галльским, был, по-видимому, заимствован в этрусской Кампании, а к этрускам попал от галльских племен Северной Италии. Выше мы уже упоминали о том, что на этрусских погребальных урнах III в. до н. э. были обнаружены рельефы, изображавшие поединки между двумя такими галлами и галлом и фракийцем. Вообще же подобные изображения, выбитые также на надгробиях, являются важнейшим свидетельством существования и многих других типов вооружения. В эпоху Империи «галлы» были постепенно вытеснены так называемыми мурмиллонами (или мирмиллонами), называвшимися так по значку в виде морской рыбы на шлеме или каске. В их снаряжение входили галльский щит, а также меч и копье; поножей, однако, не было. 
Гладиаторы. Рисунки из Помпей В отличие от своего брата Тита, предпочитавшего фракийцев, император Домициан (81–96 гг. н. э.) был столь яростным приверженцем мурмиллонов, что эта почти болезненная любовь выразилась однажды в кровавой мести одному из болельщиков партии фракийцев. Светоний так описывает этот страшный случай: «Отца семейства, который сказал, что гладиатор-фракиец не уступит противнику, а уступит распорядителю игр» (а им являлся сам Домициан), «он приказал вытащить на арену и бросить собакам, выставив надпись: «Щитоносец[34] — за дерзкий язык»». Еще одним типом гладиаторов, также, возможно, имевшим глубокие исторические корни, был ретиарий, или боец с сетью. Одетые наподобие рыбаков в напоминавшую рубашку тунику, ретиарий кружили вокруг своих противников, пытаясь мгновенно набросить на них сеть, чтобы вывести из строя и заколоть кинжалом или трезубцем, напоминавшим тот, что употреблялся при ловле тунца. Если же жертва умело увертывалась, то ретиарий быстро подтягивал сеть к себе за специальный шнур и вновь начинал «ловлю». Главным противником ретиария наряду с мирмиллоном был секутор, т. е. преследователь, вооружение которого, так же как у тяжеловооруженного самнита, состояло из шлема с прорезью для глаз, меча и щита. Ретиарий, выступавший полуголым, без пышного снаряжения и даже без шлема, занимал низшую ступень среди гладиаторов и часто вынужден был влачить жалкое существование. Обычно гладиаторские игры представляли собой серию дуэлей, т. е. именно поединков между двумя бойцами, однако порой устраивались и групповые бои, и даже настоящие битвы. Подобный бой между несколькими противниками с неожиданным исходом описывает Светоний в биографии Калигулы: «Пять гладиаторов-ретиариев в туниках бились против пяти секуторов, поддались без борьбы и уже ждали смерти, как вдруг один из побежденных схватил свой трезубец и перебил всех победителей; Гай в эдикте объявил, что скорбит об этом кровавом побоище и проклинает всех, кто способен был на него смотреть». Однако приведенный список отнюдь не исчерпывает всех типов гладиаторов. Были среди них и конные бойцы, такие, как андабаты, тело которых прикрывала парфянская кольчужная броня, а лицо — глухой шлем без прорезей для глаз. Вооружены они были длинными копьями, которые направляли друг на друга на полном скаку. Эсседарии же бились в британских колесницах, управлявшихся стоявшим рядом возницей. Как против диких зверей, так и против других гладиаторов выступали на арене и лучники. Выходили на бой друг с другом и те, кто были вооружены двумя кинжалами каждый. Были и метатели петли, размахивавшие одновременно специальной кривой палкой, которую они держали в правой руке, а также бойцы, вооруженные маленьким щитом и изогнутым прутом в левой руке и кнутом в правой. Велиты, вооруженные копьем и метательным ремнем, бились друг с другом пешими. В зависимости от места и времени действия менялись и некоторые особенности вооружения и снаряжения. Были и такие гладиаторы, которые могли выступать с различными видами оружия. Публика требовала смены впечатлений, поэтому методы взаимного уничтожения на арене отличались исключительным многообразием, так что термин «гладиатор» следует понимать в очень расширительном толковании, а не просто как «фехтовальщик». Иерархия и дух товариществаГладиаторам одной школы разрешалось объединяться, например, с целью совместного поклонения богам-покровителям, к которым в первую очередь относились, естественно, Марс и Диана, а также Геркулес, победитель диких зверей и людей, затем Виктория, Фортуна, Немезида и даже лесное божество Сильван, как следует из надписи 177 г. н. э., посвященной гладиаторам Коммода. Совместные занятия тем или иным видом оружия, при строгой иерархии внутри этих видов, также способствовали сплочению соратников. Однако существовали и дружественные связи с другими братьями по оружию. Нам известны случаи выражения духа товарищества по отношению к павшим на арене, памятники которым сооружали их соратники либо управляющие школами. На военизированную организацию школ указывают и титулы, которыми награждали активных бойцов, причем речь шла о терминах>и выражениях, созданных в подражание тем, что применяются в военном деле. Мудреная иерархия гладиаторов знала различные ступени и внутри отдельных родов оружия. Бойцы первого, второго, третьего и четвертого классов жили в раздельных помещениях, а некоторые из них настаивали Даже на том, чтобы выступать только против бойцов своего ранга. Проявившие себя на арене могли рассчитывать на повышение; тем самым создавалось некое подобие офицерского корпуса, в задачи которого входили присмотр и командование «рядовыми» или «тиронами», как называли новобранцев, а также их тренировка. Последние выходили на арену и затем становились ветеранами. Лучшие из лучших превращались со временем в бойцов первого класса. Те, кому в этой игре жизни со смертью удавалось выжить, получали деревянный меч (rudis) как знак освобождения. После этого такой боец становился свободным человеком и мог заняться преподаванием боевого мастерства или выступать сам в гладиаторских играх за хорошую плату. Так, Светоний сообщает, что император Тиберий (14–37 гг. н. э.) «приглашал даже отставных заслуженных гладиаторов за вознаграждение в сто тысяч сестерциев». Наряду с различными рангами на военный манер бойцов характеризовали также и звучные либо ласкательные профессиональные имена-клички, которыми наделяла гладиаторов публика или они сами. Порой это были имена прославленных бойцов прошлого, порой — героев эпоса, а иной раз и имена прекрасных мальчиков из мифов и легенд, такие, как Гилас, Нарцисс и Гиацинт (свидетельство гомосексуальных страстей и склонностей, доказательством чему служат и надписи, сделанные в честь любимых гладиаторов). Вообще к гладиаторам относились хуже, чем к шелудивым псам, но многих поражало присущее им чувство сословной чести. Они считали позорным стремление променять свое кровавое ремесло на какое-нибудь другое либо выступать на арене против более слабого противника. Эпиктет, философ Г столетия н. э., упоминает об императорских гладиаторах, негодовавших из-за того, что им не давали выступать. «Какие прекрасные годы пропадают зря!» — это восклицание Сенека услышал из уст одного мирмиллона, жаловавшегося на бессмысленную потерю времени в правление Тиберия, слишком редко устраивавшего гладиаторские игры. Это «безумство храбрых» служило для иных обоснованием циничных рассуждений в защиту столь унизительного для человека развлечения; утверждалось, что гладиаторы при этом получают не меньшее удовольствие, чем публика. Невероятным может показаться и презрение к смерти, с которым миллионы гладиаторов веками вступали в свой последний бой, — и это после всех тех мучений, которые им пришлось испытать до того. Даже трусливые становились на арене отчаянными, ибо знали, что любовь к жизни менее всего способна вызвать сострадание зрителей. Осознание своей отверженности порождало в них безумную, яростную храбрость. Самые тяжелые ранения они переносили без единого стона. Ни кровавый спектакль, который разыгрывался на арене, ни вид гибнущих товарищей по несчастью не могли поколебать их моральной мощи и силы. Цицерон был также поражен столь удивительным мужеством. Почему, спрашивает он в «Тускуланских беседах», в сравнении с этой человеческой пеной римляне выглядят столь убого? «Вот гладиаторы, они — преступники или варвары, но как переносят они удары! Насколько охотнее вышколенный гладиатор примет удар, чем постыдно от него ускользнет! Как часто кажется, будто они только о том и думают, чтобы угодить хозяину и зрителям! Даже израненные, они посылают спросить хозяев, чего те хотят, — если угодно, они готовы умереть. Был ли случай, чтобы даже посредственный гладиатор застонал или изменился в лице? Они не только стоят, они и падают с достоинством; а упав, никогда не прячут горла, если приказано принять смертельный удар! Вот что значит упражнение, учение, привычка, и все это сделал «грязный и грубый самнит, достойный низменной доли». Если это так, то допустит ли муж, рожденный для славы, чтобы в душе его хоть что-то оставалось вялое, не укрепленное учением и разумом? Жестоки гладиаторские зрелища, многим они кажутся бесчеловечными, и, пожалуй, так оно и есть — по крайней мере, теперь; но когда сражающимися были приговоренные преступники, то это был лучший урок мужества против боли и смерти — если не для ушей, то для глаз». Все больше крови!«В должности эдила»[35] — начальника городской и рыночной полиции и организатора представлений в цирке — «Цезарь украсил не только комиций и форум с базиликами, но даже на Капитолии выстроил временные портики, чтобы показывать часть убранства от своей щедрости. Игры и травли он устраивал как совместно с товарищем по должности, так и самостоятельно, поэтому даже общие их траты приносили славу ему одному. Его товарищ Марк Бибул открыто признавался, что его постигла участь Поллукса: как храм божественных близнецов на форуме называли просто храмом Кастора, так и его совместную с Цезарем щедрость приписывали одному Цезарю. Вдобавок Цезарь устроил и гладиаторский бой, но вывел меньше сражающихся пар, чем собирался; собранная им отовсюду толпа бойцов привела его противников в такой страх, что особым указом было запрещено кому бы то ни было держать в Риме больше определенного количества гладиаторов». Что же именно побудило сенат принять такое ограничительное решение? Начиная с первых гладиаторских игр, организованных должностными лицами — консулами 105 г. до н. э. П. Рутилием Руфом и Гаем Манилием, в эпоху заката Республики все чаще стали находиться государственные мужи, стремившиеся использовать в своих интересах огромное пропагандистское влияние расточительных мероприятий подобного рода. Теперь не только осененные славой полководцы выставляли на арену колонны гладиаторов, чтобы отпраздновать свой триумф, но и магистраты всех рангов додумались таким образом добиваться благосклонности народа. Среди них были и эдилы, устраивавшие в дополнение к театральным и цирковым представлениям также гладиаторские бои, как Цезарь. Его намерение послать на арену несколько сот пар бойцов так напугало сенат, что он законодательным путем ограничил число гладиаторов, которые могут находиться в собственности частного лица. Одной из целей было предотвращение возможного манипулирования общественным мнением. Тем не менее в тот раз все же выступило 320 пар, а бои продолжались несколько дней. Щедрость, которую Цезарь выказывал при организации всякого рода представлений и торжеств, а также общественных трапез, совершенно затмила усилия всех его предшественников. «Но и народ, со своей стороны, стал настолько расположен к нему, — подтверждает Плутарх, — что каждый выискивал новые должности и почести, которыми можно было вознаградить Цезаря». Уже через два года, т. е. в 63 г. до н. э., сенат законодательно запретил всем будущим магистратам в течение двух лет перед соисканием должности организовывать гладиаторские бои, если только их не обязывало к тому чье-либо завещание. Такие ограничительные постановления сената имели под собой и иные основания. В 73–71 гг. до н. э. гладиаторы впервые выступили как солдаты, когда бежавший из школы Спартак буквально из ничего слепил сильное войско рабов и гладиаторов, поставив тем самым Рим в крайне тяжелое положение. Пережитый страх не покидал многих. В последние же годы Республики опасения еще более укрепились, когда честолюбивые и решительно настроенные политики стали обзаводиться своего рода гвардией телохранителей из числа гладиаторов, чтобы в крайнем случае добиваться достижения политических целей силовыми методами. Угрозу давления на государство с помощью войска, составленного из гладиаторов, сенат ощутил во время заговора Каталины.[36] На заседании 21 октября 63 г. до н. э., созванном в связи с необходимостью его подавления, сенат решил вывести расположенные в столице войска гладиаторов в Капую и другие города, с тем чтобы лишить мятежников опасного оружия. Не будь принята эта мудрая мера предосторожности, приверженцам Каталины, возможно, удалось бы превратить имевшиеся в их распоряжении отряды гладиаторов в инструмент политического террора, столь же (если не более) отвратительный, как и тот, к которому прибегали позднее Клодий и Милон[37] с их вооруженными приспешниками. Яркий свет на эти обстоятельства проливает одно из писем Цицерона (56 г. до н. э.): «Так противодействуют изданию самых пагубных законов, особенно законов Катона, которого отменно провел наш Милон. Ибо тот покровитель гладиаторов и бестиариев купил у Коскония и Помпония бестиариев, и они всегда сопровождали его в толпе с оружием в руках. Прокормить их он не мог и потому с трудом удерживал их. Милон это проведал; он поручил кому-то не из близких ему людей купить этих рабов у Катона, не вызывая подозрений. Как только их увели, Рацилий, единственный в то время настоящий народный трибун, разгласил это и сказал, что эти люди куплены были для него (ибо таков был уговор), и вывесил объявление о продаже рабов Катона». В том же 56 г. некий М. Скавр обвинил своих соперников в борьбе за консулат в том, что они имели около 300 вооруженных бойцов. Вскоре этот дурной обычай распространился столь широко, что невозможным стало проведение избирательных комиций.[38] Личная гвардия Марка Антония (82–30 гг. до н. э.), первым открыто выступившего с вооруженными людьми, составляла 6000 человек. Огромное число гладиаторов, обучавшихся Цезарем в его школе в Капуе, перед началом гражданской войны (49 г. до н. э.), естественно, рождало опасения в рядах приверженцев Помпея, подозревавших его в том, что он захочет включить их в состав своей армии. И действительно, консул Лентул обещаниями свободы призвал их к оружию и посадил на коней, однако всеми за то порицался. Напротив, «Помпей вполне удачно распределил их», — как сообщает об этом Цицерон, — «по двое между отдельными отцами семейств. В школе было 5 тысяч щитов. Как говорили, они намеревались сделать вылазку. Это было очень предусмотрительно с государственной точки зрения». Передав гладиаторов Цезаря гражданам в качестве телохранителей, Помпей исключил возможность их военного применения. Для Цезаря гладиаторы были любимейшим увлечением, которому он уделял внимание даже в моменты величайшего политического напряжения — пусть даже для отвода глаз, как в следующем случае. Непосредственно перед переправой через Рубикон в ночь с 10 на И января 49 г. до н. э., ставшей началом гражданской войны, он, по словам Светония, в Равенне «присутствовал для виду на народных зрелищах и обсуждал план гладиаторской школы, которую собирался строить, и устроил, как обычно, многолюдный ужин». В 46 г. до н. э. всесильный диктатор Цезарь праздновал четырехкратный триумф после своих ошеломляющих успехов. Это был торжественный въезд в Рим провозглашенного императором полководца по завершении победоносной войны. Проводился же триумф при наличии определенного рода предпосылок, о которых судил сенат. В «Словаре античности» по этому поводу сказано следующее: «Впереди шествовали сенат и магистраты; за ними длинной чередой следовала военная добыча… и наконец — золотые венки и почетные дары полководцу. Перед колесницей триумфатора вели празднично украшенных жертвенных животных и самых видных пленников, часто царей и вождей; затем следовала запряженная четверкой белых коней роскошная колесница, а на ней — сам триумфатор в шитой золотом пурпурной одежде, со скипетром из слоновой кости, увенчанным орлом, в руке и с лавровым венком на голове — будто воплощение победоносного Юпитера, которому, собственно, посвящался триумф. Сыновья триумфатора участвовали в чествовании своего отца. Заключали шествие увенчанные лаврами воины, певшие славу своему полководцу вперемежку с сатирическими куплетами по поводу его же персоны. На Капитолии лавровый венок триумфатора возлагался в храме Юпитера и приносилась благодарственная жертва; завершали празднество торжественное угощение и одаривание армии и народа». Умение Цезаря завоевывать благосклонность народа на свою сторону само собой подразумевает, что он не мог упустить уникальную возможность устроить в связи со своим четырехкратным триумфом спектакль невиданной дотоле пышности, сопровождавшийся массовой резней в его честь. При этом он не удовлетворился чудовищной травлей диких зверей, но приготовил истинную гладиаторскую битву, в которой с каждой стороны принимало участие по 500 пеших солдат, 30 всадников и 20 слонов. Цезарь же первым устроил гладиаторские игры в память женщины. Не успели завершиться пышные празднества по поводу его четырех триумфов (галльского, египетского, понтийского и африканского), как Цезарь (об этом мы читаем у Плутарха) «принялся раздавать солдатам богатые подарки, а народу устраивал угощения и игры. На 22 000 столов было устроено угощение для всех граждан. Игры — гладиаторские бои и морские сражения — он дал в честь своей давно умершей дочери Юлии».[39] На гладиаторских играх Цезаря впервые в качестве бойца выступал представитель всаднического сословия. «В гладиаторской битве на форуме бились насмерть Фурий Лептин из преторского рода и Квинт Кальпен, бывший сенатор и судебный оратор» (Светоний). При этом он, однако, запретил сенатору Фульвию Сетину бесчестить свое сословие на арене. «Клянусь богом верности, ты купил прекрасный отряд; мне рассказывают, что гладиаторы бьются удивительно. Если бы ты захотел отдать их внаем, то после двух последних боев вернул бы свои деньги» — это свидетельство современника Цезаря Цицерона, содержащееся в его письме к богатому другу Аттику, показывает, что организаторы гладиаторских игр не только добивались благосклонности народа, но и набивали собственную мошну. За убийством Цезаря 15 марта 44 г. до н. э. последовало еще одно законодательное установление в области регулирования гладиаторского дела: в качестве ежегодного поминовения увековеченного диктора сенат распорядился посвящать в Риме и других городах Италии один день в году гладиаторским играм. После 105 г. до н. э. это был первый важный шаг к настоящему огосударствлению древнего народного обычая. Еще через два года плебейские эдилы (по-видимому, не без разрешения сената) во время цериалий — праздника в честь богини урожая Цереры — устроили вместо конных состязаний гладиаторские игры. Что касается императоров, то они всегда стремились к ограничению возможностей частных лиц устраивать гладиаторские бои, пытаясь поставить эту деятельность полностью под контроль государства. Так в 22 г. до н. э. Август распорядился, чтобы преторы дважды в год устраивали в Риме гладиаторские бои, участвовать в которых, однако, могли не более 60 пар бойцов. В рамках же частных гладиаторских игр, и тогда и позднее, и сотня пар не была редкостью. Сам Август, устраивавший собственные игры в дополнение к тем, что давали его чиновники, преступал всякие ограничения. По данным, зафиксированным в «Деяниях божественного Августа», за все время своего длительного правления он устроил всего лишь восемь гладиаторских игр, в которых, однако, сражались «около 10 000 человек» — поистине чудовищная резня ради увеселения толпы! И увеличения популярности императора… Размахом и массовостью отличался спектакль, устроенный Клавдием по поводу его триумфа в 44 г. н. э. В данном случае речь шла о вполне реалистически представленном захвате и разграблении города, включая и выдачу вражеских вождей. Римская публика, наблюдая на арене битву в миниатюре — так, как мы теперь следим за кровавыми событиями по телевизору, сидя в домашних тапочках, — следила за перипетиями боевых действий, незнакомых ей по собственному опыту. Клавдий же переложил обязанность устраивать гладиаторские игры с преторов на коллегию квесторов, освободив их ради этого от надзора за строительством дорог. Государство все более поощряло распространение служившей для увеселения толпы человеческой резни, причем каждый последующий правитель стремился переплюнуть предыдущего. Примеры тому дало длившееся всего несколько месяцев в 69 г. н. э. правление императора Вителлия. Сначала его полководцы Цецина и Валент устроили в Кремоне и Бононии (Болонье) гладиаторские бои огромного размаха, а после они же отпраздновали день рождения Вителлия с редким великолепием, устроив гладиаторские бои в каждом квартале Рима[40] (как сообщает Тацит). Не стал скупиться и Тит (79–81 гг.) при освящении Колизея в 80 г. н. э., поразив всех стодневным празднеством, включавшим и многочисленные гладиаторские бои, посмотреть на которые стекались представители «племен со всего света». Однако и это еще пустяк в сравнении с торжествами, устроенными Траяном (98-117 гг.) в 107 г. н. э. по поводу его побед в Дакии (Румыния). Мало того, что блистательные зрелища длились 123 дня, в течение этих четырех месяцев он послал драться в амфитеатр 10 000 гладиаторов, бои которых перемежались с травлей 10 000 диких зверей. В последующем (со 108 по 113 г.) в играх по приказу Траяна один раз выступало 350 и в другой — «всего лишь» 202 бойца, зато в третьем, поистине умопомрачительном представлении, длившемся 117 дней, на арену была выведена 4941 пара! Всего же со 106 по 114 г. н. э. по меньшей мере 23 000 гладиаторов сражались друг с другом не на жизнь, а на смерть, исполняя волю императора. Конечно, народу нравились подобного рода битвы на арене, так что и последующие императоры предпринимали все возможное для того, чтобы не ударить в грязь лицом. Поистине выдающимся событием стало празднование тысячелетия Рима в 248 г. н. э., в ознаменование которого Филипп Араб (244–249 гг.) выставил тысячи гладиаторов, покрывших потом арены тысячами трупов. Panem et circenses — «хлеба и зрелищ» — требовал плебс Древнего Рима, и мужи, стоявшие у власти, предоставляли народу то, чего он желал. Аппетит, как известно, приходит во время еды, поэтому число всякого рода общественных развлечений постоянно возрастало. При Августе гладиаторские бои и театральные представления занимали 66 дней в году, при Марке Аврелии (121–180 гг. н. э.) — уже 135, а в IV в. их число возросло до 175 и более дней; увеселительные мероприятия для народа происходили, таким образом, каждые два дня. Растущие масштабы гладиаторских игр требовали все большего числа бойцов, которых привозили из все более далеких областей после покорения их римской военной машиной. Если на аренах в период Республики выступали прежде всего самниты, галлы и фракийцы, то во времена Римской империи здесь можно было увидеть и покрытых татуировками британцев, и русоволосых германцев с Рейна и Дуная, и темнокожих мавров, жителей гор Атласа, и негров из внутренней Африки, и кочевников из русских степей. Все это были гладиаторы. В триумфальной процессии Аврелиана в 274 г. перед колесницей императора вели со связанными руками плененных готов, аланов, роксоланов, сарматов, франков, свевов, вандалов, германцев и жителей Пальмиры, египетских мятежников и десятерых женщин, которые, переодевшись мужчинами, сражались среди готов и вместе с ними попали в плен. Часть этих людей, а возможно, и все, должны были в последовавших затем гладиаторских играх броситься друг на друга с оружием в руках, чтобы разделить судьбу многих тысяч других таких же военнопленных. Так что в людях, убивавших друг друга на арене, недостатка не было. Такая широкомасштабная субсидированная государством резня была, по мнению М. Гранта, свидетельством «перехода империи от периода анархического упадка к эпохе жестокого позднеантичного тоталитаризма». Властитель и толпаЛичное присутствие императора на играх, олицетворявшее общественные обязанности властителя по отношению к своему народу, способствовало установлению особых связей между ним и толпой. Как пишет Плиний Младший в своем «Панегирике», тем самым плебсу предоставлялось не только счастье «лицезреть императора среди народа», но и вместе с ним переживать все перипетии представления на арене. Тысячи и тысячи пар глаз внимательно следили за каждым движением, каждым жестом принцепса.[41] Притягивают его жестокости или же отталкивают, скучает он или развлекается, показывает себя щедрым или же скупым? Осознание маленьким человеком того, что его и великого Цезаря объединяют одни и те же переживания, не могло не воодушевлять народ. Рассказы о том, как вел себя великий в тот или иной момент боя на арене, передавались из уст в уста. С жадностью подхватывались даже мелочи о его развлечениях. Прекрасный пример тому — рассказ Светония о Домициане, римском императоре с 81 по 96 г., который, как уже упоминалось, питал противоестественную страсть к разного рода нездоровым развлечениям, лично устраивал ночные гладиаторские бои при свете факелов, заставлял выступать на арене женщин наряду с мужчинами. «На квесторских играх, когда-то вышедших из обычая» — а именно после того, как Клавдий распорядился устраивать их, а Нерон вновь отменил, — «и теперь возобновленных, он всегда присутствовал сам и позволял народу требовать еще две пары гладиаторов из его собственного училища: они всегда выходили последними и в придворном наряде. На всех гладиаторских зрелищах у ног его стоял мальчик в красном и с удивительно маленькой головкой; с ним он болтал охотно и не только в шутку: слышали, как император его спрашивал, знает ли он, почему при последнем распределении должностей наместником Египта был назначен Меттий Руф?» В своей императорской ложе принцепсы были подвержены давлению общественности более, чем где бы то ни было. Большинство из них умели распознавать проявляющуюся в амфитеатрах волю народа и пользоваться этим знанием для политического руководства массами. Лишь немногие правители открыто демонстрировали свое нежелание подвергаться своего рода проверке общественным мнением во время гладиаторской резни. К числу таких относился и Марк Аврелий (121–180 гг. н. э.), определенно не любивший ни гладиаторских игр, ни театральных представлений, ни каких-либо иных развлечений, носивших публичный характер. Не имея возможности совершенно устраниться от них, он, по крайней мере во время боев, устраивавшихся при дворе, приказывал выдавать гладиаторам тупое оружие. Кроме того, он считал возможным более разумное использование мужества и умения гладиаторов, резавших друг друга на арене на потеху праздной публике. Поэтому во время войны с маркоманнами он создал из них особое воинское подразделение, названное им «Послушные» и находившееся в личном распоряжении императора. Предыдущая попытка использовать гладиаторов в качестве солдат, предпринятая Цезарем во время гражданской войны против Помпея, как известно, провалилась. Другой пример нежелания потакать вкусам толпы задолго до Марка Аврелия был показан императором Тиберием (14–37 гг. н. э.), ум которого сформировался под воздействием греческой философии. Тацит в своих «Анналах» сообщает: «Распоряжаясь на гладиаторских играх, даваемых им от имени его брата Германика и своего собственного, Друз[42] слишком открыто наслаждался при виде крови, хотя и низменной; это ужаснуло, как говорили, простой народ и вынудило отца выразить ему свое порицание. Почему Тиберий воздерживался от этого зрелища, объясняли по-разному; одни — тем, что сборища внушали ему отвращение, некоторые — его прирожденной угрюмостью и боязнью сравнения с Августом, который на таких представлениях неизменно выказывал снисходительность и благожелательность. Не думаю, чтобы он умышленно предоставил сыну возможность обнаружить перед всеми свою жестокость и навлечь на себя неприязнь народа, хотя было высказано и это мнение». Кроме того, урезав гонорары артистов и установив максимальное число выступающих на арене бойцов, Тиберий ограничил расходы на театральные представления и гладиаторские игры. Политическое значение игрРазросшиеся до гигантских размеров гладиаторские игры императоры использовали не только для укрепления своей популярности в народе, но и в качестве средства политического маневра, отвлекающего массы от мятежных настроений и укрепляющего тем самым автократию. Ведь все-таки в одном только городе Риме было около 150 000 безработных, содержавшихся на общественный счет, и столь же много людей, кончавших работу уже ко времени обеда. Все они были исключены из политической жизни, и потому правители стремились не допустить недовольства или разжигания страстей, отвлекая народ хлебом и зрелищами. «Этот народ уж давно, с той поры, как свои голоса мы не продаем, все заботы забыл, и Рим, что когда-то Все раздавал: легионы, и власть, и ликторов связки. Сдержан теперь и о двух лишь вещах беспокойно мечтает: Хлеба и зрелищ!» — такими словами, исполненными ярости и презрения, бичевал римский сатирик Ювенал (ок. 60-140 гг. н. э.) своих современников. Еще через 40 лет Фронтон[43] писал о том же: «Римский народ волнуют прежде всего две вещи: его пропитание и его игры». Желая сохранить свою абсолютную власть, императоры должны были не допускать того, чтобы толпа голодала или скучала от безделья, и для достижения этой цели они полными пригоршнями бросали деньги в народ. Набивая его желудок и притупляя чувства, они затыкали ему рот. Для проведения этих исключительно дорогостоящих и требовавших тщательной подготовки массовых мероприятий принцепсы назначали высших чиновников, отвечавших за всю организацию игр. Однако для человека, посаженного Калигулой (37–41 гг. н. э.) на эту должность, такое назначение оказалось роковым, ибо, как сообщает Светоний, «надсмотрщика над гладиаторскими битвами и травлями он велел несколько дней подряд бить цепями у себя на глазах и умертвил не раньше, чем почувствовал вонь гниющего мозга». Клавдий, правивший после Калигулы, ввел соответствующую постоянную должность и присудил ее обладателю звание procurator a muneribus или procurator munerum. После того как игры, устроенные Августом, «блеском и разнообразием превзошли все, чем восхищались до того», как замечает греческий историк Дион Кассий,[44] все его преемники (за исключением Тиберия) соревновались друг с другом в роскоши, размахе и щедрости при организации гладиаторских игр. Но превзошел всех остальных, по-видимому, Траян (98 — 117 гг. н. э.), сравнивавшийся современниками с самим Юпитером. Дион Кассий усматривает в этом и политическую дальновидность императора, никогда не оставлявшего без внимания «звезд» сцены, цирка и арены. Он хорошо понимал, что успехи правительства зависят от устройства развлечений не менее, чем от занятий серьезными делами. Денежные и хлебные дары улучшают положение отдельных лиц, в то время как игры необходимы для удовлетворения массы. «Дал гладиаторов дешевых…»Если император мог позволить себе самое широкое финансирование гладиаторских игр, то должностные лица, в том числе консулы и преторы, принужденные делать огромные траты, к чему обязывало их место в государственной иерархии, оказывались иной раз на грани полного разорения. Прекрасной иллюстрацией тому может служить эпиграмма римского сатирика Марциала: не успел супруг некой Прокулеи вступить в должность претора, как его молодая жена тут же подала на развод и просила его вернуть все ее состояние, что и возмутило автора сатиры: В нынешнем ты январе, Прокулейя, старого мужа
Хочешь покинуть, себе взяв состоянье свое.
Что же случилось, скажи? В чем причина внезапного горя?
Не отвечаешь ты мне? Знаю: он претором стал,
И обошелся б его мегалезский пурпур[45] в сто тысяч,
Как ни скупилась бы ты на устроение игр;
Тысяч бы двадцать еще пришлось и на праздник народный.
Тут не развод, я скажу, тут, Прокулейя, корысть.
Особенно ударила по преторам, высшим должностным лицам после консулов, ликвидация государственных доплат организаторам игр, проведенная Августом. Он же, первый римский император, запретил всем чиновникам, кроме преторов, устраивать гладиаторские бои, предоставив им исключительное право, а точнее говоря — обязанность, которую Клавдий возложил позднее на многочисленных более молодых и менее влиятельных квесторов. И в последующем лишь некоторым избранным богачам, пользовавшимся полным доверием императоров, удавалось организовывать гладиаторские игры в Риме. Однако этот запрет на устройство бойцовских состязаний частными лицами не распространялся на другие города Италии и провинции. Во время проведения игр их организаторы имели право носить знаки высшей власти, резервировать места в амфитеатре либо продавать их за огромные деньги. Если же устроитель оказывался недостаточно щедр, то все его усилия не достигали желанной цели, и вместо этого он навлекал на себя недовольство народа, считавшего себя обманутым. «Дал гладиаторов дешевых, полудохлых, дунешь на них — и повалятся» — над таким скрягой смеется Эхион-лоскутник в знаменитом Петрониевом «Пире Трималхиона». Так что тому, кто хотел сохранить политическое лицо и полюбиться народу, приходилось ради «хорошей прессы» глубоко залезать в собственный карман. В эпоху Империи ежегодно избиравшиеся на местах магистраты — дуумвиры и эдилы — часто устраивали гладиаторские игры для возвеличения своей должности. Организаторами игр становились наряду с ними и верховные жрецы городов и провинций. «Голосуйте за М. Казеллия Марцелла! — призывает жителей города надпись, выведенная на стене дома в Помпеях активистами избирательной кампании. — Он будет хорошим эдилом, устроит великолепные игры». Юридическая или только моральная обязанность развлекать народ гладиаторскими побоищами чем дальше, тем больше рассматривалась самими устроителями как тяжелое бремя даже в случае некоторого возмещения понесенных убытков. Поэтому с облегчением был встречен закон, принятый сенатом в период совместного правления Марка Аврелия и Л. Коммода, т. е. между 177 и 180 гг., позволявший снизить расходы на организацию игр. Предшествовала же этому решению благодарственная речь[46] некоего, по-видимому галльского, сенатора, обращенная к обоим правителям, в которой он воздавал им похвалы за действенные мероприятия, позволившие спасти лучших мужей Галлии от разорения. Речь эта свидетельствует о том, насколько невыносимой до тех пор являлась для организаторов игр обязанность устраивать гладиаторские бои. Прежде всего императоры отменили налог, который платили государству ланисты. Конечно, фиск недосчитался довольно значительной суммы, но «императорские деньги должны быть чистыми». Во времена Республики и ранней Империи ланисты были повсюду, да и позднее они нередко промышляли своим темным и презренным ремеслом за пределами Рима. Устроители празднеств — частные лица либо местные магистраты в италийских муниципиях и провинциальных городах, желая или будучи вынужденными давать кровавые зрелища, обращались к таким «антрепренерам» и покупали у них либо нанимали требуемых бойцов. Эти люди, чаще всего сами преподаватели боевых искусств, либо жили там, где имели собственную гладиаторскую школу, либо странствовали по провинциям, покупая и продавая гладиаторов, словно торговцы скотом. Существовал даже почасовой наем бойцов. Некоторые из них — circumforani lanistae — разъезжали по стране, подобно тому как это делают нынешние директора цирков, содержащие артистов и животных, и сами устраивали игры, ради входной платы отправляя своих бойцов на смерть. Обычно в этих играх с жизнью и смертью погибало около половины участников. Подобные сделки никак не роняли достоинства знатных владельцев гладиаторских трупп, однако профессиональная торговля смертью считалась тем не менее делом постыдным. Потому-то торговцев гладиаторами и относили к разряду личностей темных и подозрительных. Тот, кто темными делишками со смертью сколачивал себе капиталец, стоял в глазах римлян столь же низко, как и клеветник, доносчик, мошенник и сводник. Но столь дурная слава закрепилась лишь за ланистами, совершенно обойдя чиновников императорских гладиаторских школ, которые не менее активно участвовали в торговле обреченными на смерть людьми. Свой собственный вклад внес в это дело и император Калигула. Постоянно страдая от нехватки денег, он сам себя объявил торговцем гладиаторами, а продажу бойцов даже монополизировал, после чего он разрешил гражданам приобретать гладиаторов сверх установленного законом числа, обеспечив себе тем самым устойчивый рынок сбыта. Естественно, никто не усматривал ничего особенного в том, что император, как и другие рабовладельцы, продавал своих рабов для боев на арене: ведь это разрешалось законом. Лишь во II в. н. э., при императоре Адриане, сделки такого рода были ограничены, однако отнюдь не запрещены. Чудовищное число гладиаторов, год за годом приносившихся в жертву толпе на аренах Рима, Италии и провинций, превращало торговлю бойцами в выгодное дело. Однако дальнейшему вздуванию цен воспрепятствовал упоминавшийся выше указ, принятый сенатом при Марке Аврелии и Луции Коммоде. Интересно в данной связи, что Марк Аврелий, призвавший «Послушных» в римское войско и сокративший тем самым предложение на рынке гладиаторов, внес собственную лепту в то, что цены на них подскочили до астрономических величин. Впрочем, отказ фиска от налога позволил торговцам дешевле сдавать внаем своих гладиаторов устроителям игр, а, кроме того, закон установил верхнюю границу стоимости найма бойцов различных родов оружия для всех игр, общие расходы на которые превышали 30 000 сестерциев. Кроме того, гладиаторские состязания были разделены на пять разрядов в зависимости от их стоимости. Наиболее дешевыми считались те, что обходились в сумму, меньшую 30 000; наиболее дорогими — те, что требовали затрат, превышавших 200 000 сестерциев. Сумма эта, о которой заранее договаривались устроитель празднества и ланиста, указывалась в объявлениях, оповещавших о проведении игр. Наивысшие цены на выступавших в каждом из этих пяти разрядов игр бойцов зависели в свою очередь от их квалификации. Обычные гладиаторы, так называемые «грегарии», стоили от 1000 до 2000 сестерциев. За бойцов более высокого класса устроитель должен был выложить от 3000 до самое большее 15 000 сестерциев. В побоищах четырех высших разрядов половину от общего количества бойцов должны были составлять грегарии. Если ланиста не располагал достаточным числом представителей низшей гладиаторской категории, то он должен был восполнить недостачу более высококвалифицированными бойцами, предоставив их, однако, за цену, не превышающую максимальной стоимости грегария. Весь же указ, содержавший также предписания по распределению премий между победителями, распространялся лишь на большие города, цены в которых были наиболее высоки. Для небольших местечек просто устанавливалась наивысшая граница расходов по организации игр, исчисляемая путем усреднения счетов за последние 10 лет. Кроме того, закон обязывал жрецов передавать преемникам гладиаторов по цене не выше той, за которую они некогда были приобретены. Таким образом, сенат создал настоящую биржу и правила регулирования рынка гладиаторов и гладиаторских игр. Одновременно был сделан еще один шаг к огосударствлению гладиаторства в провинциях по образцу города Рима. И хотя это не всем нравилось, тем не менее установление императором твердых цен стало мерой, значительно облегчившей положение имущих, ибо именно они несли расходы по организации игр. Тем самым он обеспечил себе их поддержку в период многочисленных военных междоусобиц. От деревянного помоста к амфитеатру«Гладиаторы эдила Светтия Церия будут выступать в Помпеях 31 мая. Под навесом амфитеатра будет организована травля диких зверей» — таков текст одного из объявлений, приглашавших прохожих посетить помпейский амфитеатр и посмотреть на бои гладиаторов. Писались они обычно кистью на городских стенах, стенах домов и надгробиях. «28 августа состоится травля диких зверей — Феликс дерется с медведями» — еще одна надпись. Если первоначально достаточно было деревянных подмостков, которые в срочном порядке возводились на узкой рыночной площади или в каком-либо ином общественном месте для зрителей гладиаторских боев, то вскоре быстро растущая популярность этого общенародного увлечения и стремительно увеличивавшееся число зрителей потребовали начать строительство более солидных сооружений, чем и был дан толчок к возведению амфитеатров. Неудивительно, что впервые данная архитектурная форма возникла в исключительно жадной до гладиаторских игр Кампании, т. е. в области, заимствовавшей гладиаторские состязания у этрусков и передавшей затем этот обычай Риму. Первый известный нам амфитеатр[47] был возведен в Помпеях вскоре после 80 г. до н. э. Это было смелое по замыслу деревянное строение, вместимость которого постепенно удалось довести до 20 000 сидячих мест. Для в общем-то небольшого города такой масштаб странен, но ему не стоит удивляться, ибо приток зрителей со всей округи оправдывал этот размах. Арена в Помпеях видела как выдающиеся гладиаторские бои, так и кровавую драку между помпеянцами и зрителями, прибывшими из соседней Нуцерии. Эта ужасающая резня, повлекшая за собой множество убитых и раненых, произошла в 59 г. н. э., в правление Нерона. Еще и сегодня на стенах домов Помпеи можно прочесть надписи, сделанные участниками побоища, а на одной из сохранившихся фресок резня в амфитеатре изображена с высоты птичьего полета. В своих «Анналах» Тацит так описывает эти ужасные события и их последствия: «Приблизительно тогда же, начавшись с безделицы, во время представления гладиаторов, даваемого Ливинеем Регул ом… вспыхнуло жестокое побоище между жителями Нуцерии и Помпей. Задирая сначала друг друга по свойственной городским низам распущенности насмешками и поношениями, они схватились затем за камни и наконец за оружие, причем взяла верх помпейская чернь, в городе которой давались игры. В Рим были доставлены многие нуцерийцы с телесными увечьями, и еще большее их число оплакивало гибель детей или родителей. Разбирательство этого дела принцепс предоставил сенату, а сенат — консулам. И после того, как те снова доложили о нем сенату, он воспретил общине помпейцев на десять лет устройство этого рода сборищ и распустил созданные ими вопреки законам товарищества. Ливиней и другие виновники беспорядков были наказаны ссылкой». 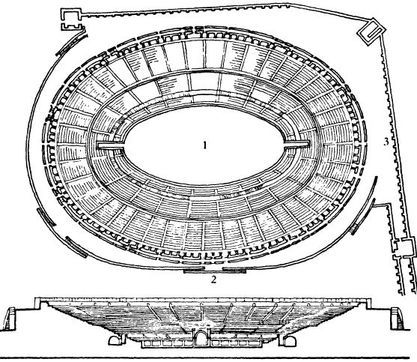
План амфитеатра в Помпеях. 1. Арена. 2. Вход. 3. Городская стена Для жителей Помпей, страстных любителей гладиаторских игр, этот десятилетний запрет был, несомненно, очень суровой карой. Однако сам Рим в строительстве гладиаторских арен отставал от Помпей. И лишь в 53 г. до н. э. молодой политик Г. Скрибоний Курион, один из приверженцев Цезаря, повелел возвести в столице амфитеатр, который бы соответствовал величию города. Это было деревянное сооружение, состоявшее, как сообщает Плиний Старший, из двух полукруглых театров, задние стены трибун которых примыкали друг к другу. В первой половине дня на их сценах разыгрывались комедии либо иные представления. Если же гладиаторские бои и травли, проходившие обычно во второй половине дня, привлекали большее число людей, то оба театра раскрывались, а искусно сделанные поворотные механизмы поворачивали их на деревянных осях вместе со всей толпой, разместившейся на трибунах, и совмещали в единое целое, представлявшее собой овал амфитеатра с ареной посредине, которую образовывали полукруглые сцены обоих театров. Сложная система рельсов и движение театров по ним привлекало жадных до зрелищ римлян настолько, что каждый из них хотел хотя бы раз, пусть даже рискуя собой, прокатиться на этой огромной карусели. «Вы посмотрите только на этот народ хозяев земли, покорителей мира — он взобрался в центр всей этой механики, да еще аплодирует опасности, которой подвергается» — так смеялся столетием позже Плиний Старший над простаками и глупцами. Наряду с пожарами, быстро пожиравшими деревянные амфитеатры, во времена Империи бывало и так, что набитые зрителями трибуны обрушивались под собственной тяжестью. Причиной тому — конструкционные ошибки, халтурная работа строителей и стремление экономить там, где не следовало бы. О такой катастрофе, происшедшей в расположенном к северу от Рима городе Фидене в 27 г. н. э., в правление императора Тиберия, рассказывает Тацит в своих «Анналах»: «…Неожиданное бедствие унесло не меньшее число жертв, чем их уносит кровопролитнейшая война, причем начало его было вместе с тем и его концом. Некто Атилий, по происхождению вольноотпущенник, взявшись за постройку в Фидене амфитеатра, чтобы давать в нем гладиаторские бои, заложил фундамент его в ненадежном грунте и возвел на нем недостаточно прочно сколоченное деревянное сооружение, как человек, затеявший это дело не от избытка средств и не для того, чтобы снискать благосклонность сограждан, а ради грязной наживы. И вот туда стекались жадные до таких зрелищ мужчины и женщины, в правление Тиберия почти лишенные развлечений такого рода, люди всякого возраста, которых скопилось тем больше, что Фидена недалеко от Рима; это усугубило тяжесть разразившейся тут катастрофы, так как набитое несметной толпой огромное здание, перекосившись, стало рушиться внутрь или валиться наружу, увлекая вместе с собой или погребая под своими обломками несметное множество людей, как увлеченных зрелищем, так и стоявших вокруг амфитеатра. И те, кого смерть настигла при обвале здания, благодаря выпавшему им жребию избавились от мучений; еще большее сострадание вызывали те изувеченные, кого жизнь не покинула сразу: при дневном свете они видели своих жен и детей, с наступлением темноты узнавали их по рыданиям и жалобным воплям. Среди привлеченных сюда разнесшейся молвой тот оплакивал брата, тот — родственника, иные — родителей. И даже те, чьи друзья и близкие отлучились по делам из дому, также трепетали за них, и, пока не выяснилось, кого именно поразило это ужасное бедствие, неизвестность только увеличивала всеобщую тревогу. Когда начали разбирать развалины, к бездыханным трупам устремились близкие с объятиями и поцелуями, и нередко возникал спор, если лицо покойника было обезображено, а одинаковое телосложение и возраст вводили в заблуждение признавшего в нем своего. При этом несчастье было изувечено и раздавлено 50 000 человек, и сенат принял постановление, воспрещавшее устраивать гладиаторские бои тем, чье состояние оценивалось менее 400 000 сестерциев, равно как и возводить амфитеатр без предварительного обследования надежности грунта. Атилий был отправлен в изгнание. Следует упомянуть, что сразу же после разразившейся катастрофы знать открыла двери своих домов: повсюду оказывали врачебную помощь и снабжали лечебными средствами; и в городе в эти дни, сколь ни был горестен его облик, как бы ожили обычаи предков, которые после кровопролитных битв поддерживали раненых своими щедротами и попечением». В своей отвратительной жажде крови и всевозможных жестокостей преемник Тиберия Калигула сожалел о том, что в его дни не произошло столь остро щекочущего нервы несчастья. В последующие же времена аналогичные крушения не раз имели место. Форму двойного театра, изобретенную Курионом, его друг гениальный диктатор Цезарь использовал в 46 г. до н. э. при праздновании своего четырехкратного триумфа для того, чтобы дать возможность наибольшему числу людей присутствовать на гладиаторских играх с травлей и многочисленными боями. Возможно, что именно он построил в Риме первый амфитеатр — временный деревянный. Первый постоянный амфитеатр в столице, включавший в себя как каменные, так и деревянные конструкции, в 29 г. до н. э. возвел Статилий Тавр, родственник и любимец императора Августа. Разрушен же он был, по-видимому, во время пожара Рима в 64 г. н. э., т. е. в эпоху Нерона. Нерон же, как и ранее Калигула, в 57 г. приказал возвести на Марсовом поле деревянное строение и заложил камень в основание каменного амфитеатра. Как упоминалось выше, в Помпеях и, по-видимому, в Капуе такие сооружения имелись и ранее. Тем временем во всех частях Римской державы планировались, закладывались и строились амфитеатры, предназначавшиеся для гладиаторских игр. Сколько их было всего, сейчас сказать трудно, однако те 70 амфитеатров, которые продолжают существовать и по сей день, конечно, всего лишь часть от общего их числа- а они имеются в Италии и Югославии, в Испании и на Сицилии, во Франции и Германии, в Британии и Греции, в Малой Азии и Египте. Некоторые из них, как, например, те, что стояли на границе, проходившей по Дунаю, или же в североафриканской Нумидии, сооружались исключительно для солдат расквартированных там римских легионов, т. е. в некотором роде в рамках обеспечения жизнедеятельности войск. Другие — те, что расположены во французских городах Арле (бывшая Арелата) и Ниме (бывший Немаус), — служат сегодня аренами для бескровного боя быков, а на ежегодные великолепные оперные фестивали в амфитеатре итальянской Вероны, где гибли некогда римские гладиаторы, собираются любители искусства со всего мира. Все эти сооружения меньше размером, но во всем остальном соответствуют гигантскому римскому образцу — великому Колизею. Колизей — отблеск былого величияТам, где Резня дышала рдяным паром
И шумный люд проходы забивал,
Журча ручьем, медлительным иль ярым,
Рыча каскадом, рухнувшим со скал,
И общий взрыв насмешек иль похвал
Был — смерть иль жизнь (потеха черни шалой)…
Когда ж Луна всплывет, полна истомы,
До верхних арок, чуть замедлив там,
И светят звезды в древние проломы,
И бриз ночной ласкается к ветвям,
Раскинутым по серым там стенам,
Как лавр по плеши Цезаря, и в свете
Все тонет мягком, с тьмою пополам, —
То мертвых чары воскрешают эти —
Прошли герои здесь — мы топчем прах столетий!
Этими строфами английский поэт лорд Байрон (1788–1824) воспевал, в своей поэме «Паломничество Чайльд Гарольда» глубоко поразившие его руины римского Колизея, полуразрушенного, но от того не менее совершенного и благородного строения, стены которого в то время поросли деревьями, кустарниками и травой. Вид величественного творения вызвал в душе поэта образы тех, кто во славу императора и ради увеселения народа проливал свою кровь на арене. Однако все волшебство этого удивительного строения не в силах заставить нас забыть о том, что создано оно было для демонстрации убийства тысяч и тысяч людей на потеху толпе — одного из самых чудовищных увеселений за всю историю человечества. Сооружение Колизея, размерами своими превышающего все предыдущие и последующие строения, было начато императором Веспасианом (69–70 гг.), завершено Титом (79–81 гг.); он же открыл Колизей стодневными торжествами; его преемнику Домициану (81–96 гг.) оставалось лишь завершить оформление. Так что великолепное это творение архитектуры стало таким памятником роду Флавиев, который современники по праву относили к числу чудес света, которое и сегодня, несмотря на частичные разрушения, производит неизгладимое впечатление. 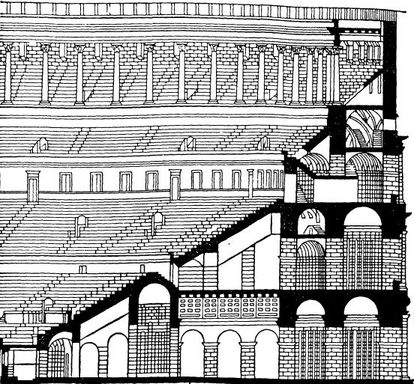
Колизей (амфитеатр Флавиев) в Риме. 75–80 гг. Реконструкция «Раз Колизей стоит, стоит и Рим; но Рим падет вослед за Колизеем, за Римом — Мир!» — так гласит известное изречение VIII в., принадлежащее, по-видимому, одному из англосаксонских паломников, пораженному колоссальным строением. Римская империя давно канула в Лету, а Колизей все стоял, продолжая оказывать влияние на архитектуру многих веков. Конечно, не минули его и многочисленные опустошительные войны, но никогда он не был разрушен совершенно, и по сей день этот величественный обломок исчезнувшей цивилизации продолжает оставаться одним из важнейших элементов архитектурного облика города Рима. Колизей стоит на месте бывшего парка Золотого Дома Нерона, а именно там, где раньше находился пруд, перед тем осушенный и засыпанный. В плане он представляет собой эллипс с внешним обводом в 527 м, главные оси которого составляют 188 м в длину и 156 м в ширину. Длина осей овальной же арены — 86 и 54 м; площадь ее — 4644 кв. м, а всего комплекса — около 29 000 кв. м. 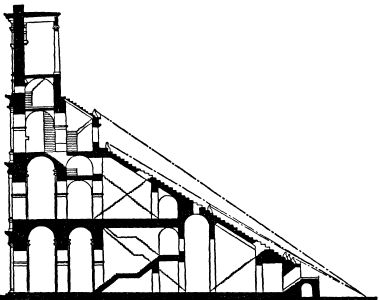
Колизей (амфитеатр Флавиев) в Риме. 75–80 гг. Разрез Первый этаж образуют аркады с 80 арками высотой 7 м и колоннами с размерами 2,40 х 2,70 м в плане. На них покоятся второй и третий этажи, в то время как четвертый составляет сплошная стена, разделенная подпорками на сектора, каждый второй из которых имеет окна. Первый этаж украшен дорическими колоннами, второй — ионическими и третий — коринфскими колоннами. Лишь изобретение бетона позволило строителям Колизея впервые в истории архитектуры вывести четыре ряда стоящих друг на друге аркад общей высотой 57 м. Глубина фундамента Колизея — 9 м. Под ареной находилась сеть переходов и помещений, которые сегодня можно увидеть просто сверху. Использовались они в качестве клеток для зверей и камер для гладиаторов, складов, а также для сложных механизмов, предназначенных для подъема на арену декораций и для прочей «сценической аппаратуры». Уже в 80 г. н. э. здесь существовала система каналов, по которым подавалась вода на арену, и она через короткое время превращалась в озеро, где разыгрывались морские сражения. Выстроено все сооружение из кирпичей, облицованных мраморными плитами, а также из блоков твердого травертинского известняка, добывавшегося неподалеку от Рима. Дорога от каменоломни, по которой доставлялись огромные камни, была расширена до 6 м. В завершении строительства амфитеатра принимали участие десятки тысяч военнопленных-иудеев, пригнанных Титом в Рим из разрушенного Иерусалима. Все 80 арок первого этажа были пронумерованы, так что гостям, приглашенным магистратом или принцепсом, для того чтобы найти свой ряд в секторе, достаточно было сравнить запись на входном билете с нумерацией, указанной над входом в аркады. Это мудрое изобретение позволяло равномерно распределять поток зрителей, стремившихся занять 45 000 сидячих мест. Не следует забывать и о 5000 стоячих мест на самой верхней террасе. Четыре арки внешней стены, расположенные на концах осей, не были снабжены табличками — публика не имела права проходить через них. Через две в амфитеатр торжественно входили император и сопровождавшая его знать, а через другие две — колонны гладиаторов. Лучшие места в ложах нижнего ряда предназначались для высокопоставленных лиц, и прежде всего императора с семьей и двором в окружении потомков древних знатных родов, сенаторов и всадников, весталок[48] и жрецов в полном облачении. Любопытство и удивление публики часто вызывали присутствовавшие в этом светлейшем кругу в великолепных одеждах, украшенных драгоценностями, цари, вожди и посланцы из Африки, из восточных и иных стран, приглашенные императором в качестве гостей. В особой почетной ложе с южной стороны амфитеатра, расположенной напротив великолепной ложи императора, восседали префекты города[49] и магистраты. 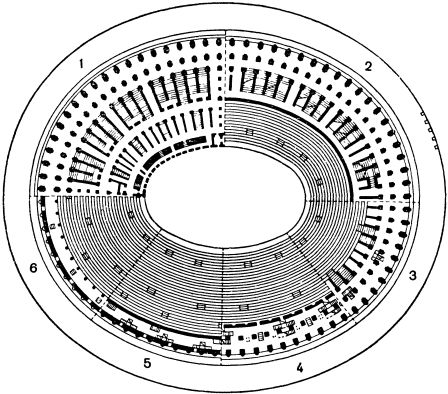
Колизей (амфитеатр Флавиев) в Риме. 75–80 гг. Планы на уровне 1 — земли, 2 — второго яруса, 3–4 — третьего яруса, 5–6 — четвертого яруса Над первым рядом все более широкими кругами расходятся, поднимаясь вверх, места с мраморными сиденьями для членов всех прочих сословий римского общества. По случаю праздника одеты они в белые тоги, головы украшены венками. Пестрые, необычные одежды тех, кто приехал из далеких краев, — представителей всех стран и народностей — словно брызгами, расцвечивают белоснежное полотно римского общества, представленного в амфитеатре. Есть ли столь дальний народ и племя столь дикое, Цезарь,
Чтобы от них не пришел зритель в столицу твою?
Вот и родопский идет земледелец с Орфеева Гема.
Вот появился сармат, вскормленный кровью коней;
Тот, кто воду берет из истоков, им найденных, Нила;
Кто на пределах земли у Океана живет;
Поторопился араб, поспешили явиться сабеи,
И киликийцев родным здесь благовоньем кропят.
Вот и сикамбры пришли с волосами, завитыми в узел,
И эфиопы с иной, мелкой, завивкой волос.
Разно звучат языки племен, но все в один голос
Провозглашают тебя, Цезарь, отчизны отцом.
Так восхвалял в I в. н. э. римский поэт Марциал величие императора. Лишь женщины императорской семьи и весталки имели право наблюдать кровавую резню на арене в непосредственной близости, прочие же сидели на более высоких рядах. На самых же высоких местах толпились представители низшего сословия — нищие, неграждане и рабы, одетые в грубое коричневое сукно, оборванные и грязные. Однако и здесь, на самой верхней террасе, ничто не мешало следить за ходом смертельной игры. Сверху были установлены мачты, на которых моряки мизенского флота,[50] умелые в обращении с парусами, натягивали накрывавший весь амфитеатр огромный навес, служивший зрителям и бойцам защитой от палящих лучей солнца и от дождя. По беломраморным скамьям скользили пестрые пятна солнечного света, пробивавшегося сквозь разноцветный навес. Однажды, во времена императора Нерона, полог над амфитеатром изображал усеянное звездами ночное небо. Из фонтанов, устроенных на арене, высоко били струи воды с примешанными к ней благовониями, распространяя при этом свежесть и опьяняющие запахи. Свист, бой барабанов, звуки труб и флейт перекрывали шум боя. Музыка и шум толпы оглушали зрителя, глаза же его ослепляли огромные массы празднично одетых людей, наполнявших скамьи великолепного сооружения, архитектурное совершенство и искусное убранство которого не могли вновь и вновь не поражать приходивших сюда. Гордостью наполнялось сердце каждого римлянина, осознававшего здесь свою принадлежность к народу, способному создавать столь удивительные творения. Присутствие в Колизее лицом к лицу со светлейшим принцепсом и представителями народов, съехавшимися со всех концов огромной империи, присутствие на столь возбуждающих, жестоких и одновременно привлекательных играх — конечно, это присутствие, это событие опьяняло все чувства зрителя и в последовавшие затем эпохи хотя бы на несколько часов оживляло призрак былого величия Рима. Тот, кто попадал в этот котел взаимно подстерегавших друг друга страстей, тут же захватывался воодушевлением кипящей вокруг него толпы и втягивался, словно в воронку водоворота, даже если до того он всей душой восставал против жестокостей гладиаторской резни и травли зверей. Об огромной колдовской силе кровавых чар набитого до отказа амфитеатра ярко повествует в своей «Исповеди» Блаженный Августин, церковный патриарх IV в. н. э. То, что произошло с его другом Алипием, превратившимся из противника кровавого зрелища в одного из его яростных поклонников, — это конечно же один из тысяч случаев подобного рода. «В Рим приехал раньше меня, а именно для того, чтобы изучать право. И здесь его с небывалой притягательной силой и в невероятной степени захватили гладиаторские бои. И хотя перед тем он питал к ним неприязнь и даже отвращение, несколько друзей и соучеников, шедших с обеда и встретивших его, несмотря на нежелание и даже сопротивление с его стороны, буквально силой — как это могут позволить себе только друзья — потащили его в амфитеатр, где в те дни давались эти жестокие игры не на жизнь, а на смерть. Он же сказал так: «Тело мое вы можете притащить и усадить там, однако дух мой и мои глаза не будут прикованы к игре на арене; итак, я буду пребывать там, но выйду победителем и над вами, и над вашими играми». Они его выслушали, но все равно взяли с собой, может быть, именно потому, что им хотелось узнать, сможет ли он сдержать свое слово. Когда они пришли в театр и пробились к каким-то местам, там уже царили дикие страсти. Алипий закрыл глаза и запретил своему духу отдаваться греховному безобразию. Ах, если бы он себе заткнул и уши! Ибо, когда в один из моментов боя на него вдруг обрушился вой всей собравшейся в амфитеатре толпы, он открыл глаза, сраженный любопытством, будто бы он был защищен против него так, что и взгляд, брошенный на арену, не мог ничего ему сделать, а сам же он всегда был способен сдерживать свои чувства. И тогда душе его была нанесена более глубокая рана, чем телу того, на кого он хотел взглянуть, и он пал ниже, чем тот, падение которого вызвало этот вой. Дух его давно был уже готов к этому поражению и падению: он был скорее дерзок, чем силен, и тем бессильнее он проявил себя там, где хотел бы более всего надеяться на себя. Ибо только он увидел кровь, как тут же вдохнул в себя дикую жестокость и не мог уже оторвать взгляда и, словно завороженный, смотрел на арену и наслаждался диким удовольствием и не знал этого и упивался с кровожадным наслаждением безобразной этой борьбой. Нет, он был уже не тот, каким был, когда пришел сюда; он стал одним из толпы, с которой смешался, он стал истинным товарищем тех, кто притащил его сюда. Нужно ли еще говорить? Он смотрел, кричал, пылал, оттуда он взял с собой заразившее его безумие, он приходил вновь и вновь и не только вместе с теми, кто когда-то привел его сюда, но и раньше их, увлекая других за собой». Так при виде смертельного боя гладиаторов пьянела толпа. Что же чувствовали перед выходом на арену сами приговоренные к смерти? Последняя трапеза«20 пар гладиаторов Децима Лукреция Сатрия Валента, бессменного фламина[51] Нерона Цезаря, сына Августа, и 10 пар гладиаторов Децима Лукреция, сына Валента, будут сражаться в Помпеях за 6, 5, 4, 3 дня и накануне апрельских ид[52] (8, 9, 10, 11, 12 апреля), а также будет охота по всем правилам и навес… Написал Эмилий Целер, один при лунном свете» — таков текст одного из настенных объявлений, сохранившихся в Помпеях. Другая надпись осведомляла жителей города о том, что «с 24 по 26 ноября в Помпеях будут биться тридцать пар гладиаторов квинвеннала[53] Гн. Аллея Нигидия Майя и их запасные», т. е. те, кто заступит на место убитых. «Будет и травля. Да здравствует Май-квинвеннал!» Как видим, тогда рекламная шумиха была не хуже той, что теперь гремит вокруг футбольного матча или рок-концерта. Специально нанятые для этого писцы писали объявления обычно красной краской на стенах домов, городских стенах и надгробиях, установленных вдоль дорог, выходивших из городских ворот. Часто в эти плакаты попарно вписывались и имена главных участников. Стремясь не дать упасть напряжению, устроители игр распределяли наиболее интересные бои на все дни празднества. Наряду с настенными объявлениями организаторы игр составляли и размножали списки с описаниями наиболее привлекательных пар бойцов и их вооружения, продавали их затем на улицах города и рассылали в соседние местечки. Были и своего рода программки — флажки с именами гладиаторов, которые носили по городу; на улицах и площадях глашатаи громогласно оповещали народ о тех, кто будет рубить и колоть друг друга на потеху публике. Какое же из имен могло оказаться в последний раз в списке на стене или на флажке? Всем было хорошо известно, что половина гладиаторов не покинут арену живыми.[54] Знали это все — как зрители, так и гладиаторы, и поэтому каждый с особыми чувствами переживал последнюю трапезу накануне игр. Римляне называли это богатое угощение менее мрачно — cena libera — «свободная трапеза», на которой устроители исключительно щедро угощали будущих гладиаторов и звероборцев. Ни на богатые кушанья, ни на дорогие напитки не скупились организаторы праздника, ибо изобильное угощение для приговоренных к смерти точно так же являлось частью установленного ритуала, как и роскошное оформление собственно игр. 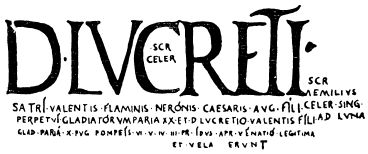
Объявление о боях гладиаторов. Помпеи Если различные рекламные мероприятия уже возбуждали всеобщее ожидание предстоящей кровавой резни, то последняя трапеза еще более его обостряла, так как гладиаторы совершали свои возлияния отнюдь не в одиночестве. Каждый любопытствующий мог побыть рядом с ними и посмотреть, как держатся мужчины, которые всего лишь через несколько часов вступят, может быть, в свой последний бой. Быть в непосредственной близости от смертника, разглядывать и даже ощупывать его, слушать его хвастовство или жалобы, читать отражающееся на его лице беспредельное мужество либо смертельный страх — такая щекочущая нервы возможность представлялась не каждый день и потому вызывала у посетителя гамму чувств — от живого интереса до злорадства. Кого из возлежащих сегодня за столом завтра мертвым утащат с арены — этого, конечно, не мог предсказать никто, но то, что завтра ты увидишь, как вот этот, неподалеку, перережет глотку тому, что подальше, это значительно увеличивало притягательность трапезы, так же как и уверенность в том, что ты-то тоже увидишь хоровод смерти своими глазами, но после праздника покинешь амфитеатр живым. Кроме того, во время последней трапезы представлялась возможность хорошенько рассмотреть гладиаторов, на которых заключались пари точно так же, как и на лошадей во время скачек. Что сами гладиаторы испытывали в это время, зависело от того, были ли они хладнокровными и жестокими убийцами или же тонкими, душевно легкоранимыми людьми. Пока одни набивали себе брюхо, других рвало. Были и такие, что, пользуясь случаем, беззаботно наслаждались богатым угощением и великолепным вином, и такие, которые, подобно волевым и ответственным атлетам, прикасались только к тем блюдам, которые в завтрашнем бою не на жизнь, а на смерть должны были поддержать их тело. Одним вино развязывало язык, а другим страх сдавливал горло. В громогласных заявлениях иных звучала непоколебимая уверенность в себе, за которой, однако, вполне могло скрываться предощущение надвигающейся смерти, которую боец пытался прогнать хвастливыми утверждениями и саморекламой. Спокойное и сосредоточенное подчинение неотвратимой судьбе было доступно далеко не всем. Иных сковывал страх, сердце останавливалось в груди, а грудь час от часа сдавливало все сильнее. Были гладиаторы, оглушавшие присутствовавших своими жалобами, дававшие волю слезам и впадавшие в истерические состояния. Некоторые составляли завещания и распространялись о своих страданиях, просили присутствующих позаботиться об их семьях. Иные трогательно прощались со своими близкими, женами и друзьями или же, будучи свободными добровольцами, одаривали свободой своих рабов. Христиане, которых приносили в жертву за их веру, искали утешения и поддержки в совместной трапезе — в память о тайной вечере Иисуса. И все это разыгрывалось словно на подмостках перед глазами жаждущей черни, окружавшей жертв своей страсти, подобно стае волков, собирающейся наброситься на добычу. Так страдания человеческие выставлялись напоказ. «Здравствуй, Цезарь, император, идущие на смерть приветствуют тебя!»И вот прошла ночь, и наступил день, которому для многих суждено было стать последним. Как правило, гладиаторские игры начинались лишь во второй половине дня. Тем не менее с самого утра тысячи зрителей спешили в амфитеатр для того, чтобы развлечься на государственный счет. Часто праздник открывался травлей диких зверей. Кровавые сцены, когда хищники с жадностью раздирали друг друга, сменялись показом дрессированных животных, удивлявших публику невероятными цирковыми трюками. Люди также боролись со зверями. Чаще всего это тоже были военнопленные, осужденные преступники или же вольнонаемные, обучавшиеся в специальных училищах. 
Звероборец. Граффито из Помпей По нескольку дней не кормленные либо специально натасканные на людей дикие звери выступали в некотором роде в качестве палачей, ибо в программу игр в амфитеатре входило и публичное наказание преступников. Самым безобидным при этом считалось выставление виновного на всеобщее обозрение посреди арены. Хуже приходилось тем (и это гораздо больше возбуждало публику), кого бичевали либо сжигали живьем. Нечеловеческим бесчувствием можно объяснить смертный приговор, когда на растерзатше хищникам выставляли привязанную к столбу и поэтому совершенно беззащитную жертву. Чтобы продлить ее страдания и вместе с тем возможность наслаждаться этим зрелищем, жертве иногда давали оружие. Звери набрасывались на несчастных, вырывая из их тел такие куски, что порой любознательные врачи использовали эту возможность для изучения внутреннего строения человека. Среди изуродованных и с головы до ног окровавленных смертников находились и такие, что просили не о милости, а о том, чтобы их мученическая смерть была оттянута до следующего дня. Подобные ужасные зрелища обставлялись пышно и театрализованно. Особенно любимы были собственно театральные, особенно пантомимические, представления с пытками и казнями на арене. Однако, вместо того чтобы пригласить артистов изображать муки и смерть, выводили преступников, предварительно заставив их выучить изображаемые сцены. И они подвергались настоящим страданиям. Один из них, вор, сожженный заживо, предстал на арене в одеянии Геркулеса. Еще у нескольких жертв в дорогих, шитых золотом туниках и пурпурных накидках, языки пламени вырывались прямо из-под великолепных и легковоспламеняющихся одежд, подобных смертоносным одеяниям волшебницы Медеи, а толпа на скамьях амфитеатра упивалась созерцанием того, как несчастные кричали и катались по песку арены, умирая в ужасных страданиях. Не существовало такой пытки или казни, которую бы не инсценировали перед публикой. Каждый мог видеть, как мужчина в роли Аттиса лишался признаков своего пола или как некто, изображавший Муция Сцеволу,[55] держал руку над огнем до тех пор, пока она не сгорела. Этот случай Марциал описывает в следующей эпиграмме: То представленье, что мы на цезарской видим арене,
В Брутов считалося век подвигом высшим из всех.
Видишь, как пламя берет, наслаждаясь своим наказаньем,
И покоренным огнем храбрая правит рука?
Зритель ее перед ней, и сам он любуется славной
Смертью десницы: она вся на священном огне.
Если б насильно предел не положен был каре, готова
Левая тверже рука в пламень усталый идти.
После отваги такой мне нет дела, в чем он провинился:
Было довольно с меня доблесть руки созерцать.
Еще один преступник был, подобно предводителю разбойников Лавреолу,[56] прибит на кресте и отдан на растерзание зверям. Марциал описывает, как его плоть и члены отваливались по кускам, пока тело не перестало быть телом. То ли в самооправдание, то ли для успокоения совести он добавляет, что замученный наверняка был отцеубийцей, храмовым вором или поджигателем-убийцей: Как Прометей, ко скале прикованный некогда скифской,
Грудью своей без конца алчную птицу кормил,
Так и утробу свою каледонскому отдал медведю,
Не на поддельном кресте голый Лавреол вися,
Жить продолжали еще его члены, залитые кровью,
Хоть и на теле нигде не было тела уже.
Кару понес наконец он должную: то ли отцу он,
То ль господину пронзил горло преступно мечом,
То ли, безумец, украл потаенное золото храмов,
То ли к тебе он, о Рим, факел жестокий поднес.
Этот злодей превзошел преступления древних сказаний,
И театральный сюжет в казнь обратился его.
Но даже подобные извращения, длившиеся достаточно долго, теряли свою привлекательность, и потому устроители «разбавляли» отвратительные мифологические представления веселыми, забавными и неприличными сценами. Так, например, под купол навеса поднимали мальчика или же выпускали на арену женщину верхом на дрессированном быке, чтобы изобразить таким образом греческую легенду о Европе, дочери царя Финикии Агенора, которую Зевс в образе быка увез из Фив на Крит. В программе, сопровождавшей гладиаторские игры, которые устраивал Нерон, зрители могли видеть, как свою страсть удовлетворяла Пасифая, жена Миноса, царя Крита, наказанная Афродитой любовью к быку. В одной из плясок юношей и девушек представлялось, по словам Светония, «как бык покрывал Пасифаю, спрятанную в деревянной телке, — по крайней мере, так казалось зрителям». Эта деревянная корова, которую покрывал бык, была, по преданию, изготовлена Дедалом, бежавшим затем с острова при помощи крыльев из перьев и воска. Его сын Икар, сопровождавший его, в полете слишком приблизился к Солнцу, растопившему воск на его крыльях, — Икар рухнул в море. Нерон приказал изобразить и это. Светоний так описывает соответствующий эпизод: «Икар при первом же полете упал близ императора и своею кровью забрызгал и его ложе, и его самого». Столь пестрая смесь травли зверей и чудес их дрессировки, казней обычных и необыкновенных, веселых сцен и неприличных пантомим, длившихся с утра до полудня, вполне успевала за это время подогреть страсти публики, с нетерпением ожидавшей кульминации празднества — гладиаторских боев. На скамьях амфитеатра постепенно затихала болтовня, делались последние ставки на известных рубак, и вот внимание всех переключалось на великолепную гладиаторскую колонну, входившую на арену. Празднично одетые — в пурпурных, расшитых золотом солдатских накидках поверх роскошного облачения, которыми особенно выделялись бойцы императорских школ, часто в шлемах прекрасной работы, украшенных различными изображениями, с покачивавшимися на них павлиньими и страусиными перьями либо с посеребренным оружием (как у бойцов Цезаря), они сходили с колесниц, доставлявших их в амфитеатр, и в военном строю маршировали по арене. За ними следовали рабы, неся снаряжение бойцов, нередко украшенное даже драгоценностями. Напротив почетной императорской ложи торжественная процессия приговоренных к смерти останавливалась; гладиаторы, подняв правую руку, приветствовали принцепса мрачным призывом, по отношению ко многим из них слишком истинным: «Ave, Caesar, imperator, morituri te salutant!» (Здравствуй, Цезарь, император, идущие на смерть приветствуют тебя!) Одни гладиаторы вступали на арену впервые, иным же уже доводилось покидать ее победителями, и теперь они должны были вновь биться за свою жизнь. Именно они по собственному опыту знали лучше других, что за резня ожидает их. Наверняка было среди них немало таких, которые, предчувствуя близкую смерть, видели уже исход предстоявшего им поединка… Послушайте, как столетия спустя Байрон описывал пленного дака, испустившего дух на пропитанном кровью песке Колизея: …Цирк вкруг бойца плывет; он умирает —
А в честь убийцы вопль звериный не смолкает.
Он слышит, но не внемлет. Взор его
С душою вместе, далеко витая.
Что жизнь ему, и приз, и торжество?
Пред ним — шалаш на берегу Дуная:
Там детворы его играет стая,
И там их мать, дакиянка… И вот
Отец зарезан, римлян забавляя!..
«Режь, бей, жги!»Однако так далеко дело еще не зашло, пока что умело поставленное и рассчитанное на раздувание страстей действо оттягивало хоровод смерти. После приветствия и парадного марша устроитель игр лично или его доверенные лица проверяли оружие. Зазубренные или тупые мечи отбирали и заменяли острыми, ибо никто не желал лишиться кровавого зрелища. Специальные гладиаторские мечи особо опасной заточки были названы по имени известного своей жестокостью сына императора Тиберия Друза, проверявшего оружие особо тщательно и немилосердно. «Остроту» ощущений предпочитал и Домициан — в 93 г. н. э. придворный поэт Марциал хвалил его за возобновление старинного обычая гладиаторского боя, связанного с применением действительно смертоносного оружия. После того как было роздано вооружение, начиналась жеребьевка пар — за исключением, конечно, тех, которые были заранее объявлены в целях привлечения публики. Открытость жеребьевки должна была исключать любые подозрения в жульничестве. Все эти приготовления к убийствам на арене еще сильнее разжигали страсти публики. Иные зрители с видом знатоков прикидывали шансы отдельных гладиаторов. Кто из двух фракийцев, сведенных жребием, победит? А кто останется на ногах после схватки полуголого ретиария с сетью и трезубцем в руках и вооруженного мечом, защищенного щитом и шлемом с прорезями для глаз секутора? Друг против друга выступали не только гладиаторы с одинаковым или различным вооружением; интерес к играм разжигали и совершенно необычные пары — таков был, например, бой карлика с женщиной, устроенный Домицианом на потеху толпе в 90 г. н. э. Своего рода закуской перед основным блюдом — смертельными поединками гладиаторов были показательные бои с тупым оружием, т. е. без пролития крови, подобные тем, что мы наблюдаем и сегодня в спортивном фехтовании. При этом «лузории» работали в гладиаторской технике деревянным оружием, а «пегниарии» отбивались бичом и палкой. Калигула, сам страшный, как ночь, и считавший чуть ли не оскорблением величества, если кто-либо позволял себе смотреть на него сверху вниз, тем не менее находил особенно забавными такие «спортивные» схватки между известными и уважаемыми отцами семейств, обладавшими физическими недостатками. Подогретые всеми этими представлениями зрители в амфитеатре с нетерпением ожидали кульминации игр — первого боя настоящим оружием. И вот раздавались глухие звуки труб, означавшие начало резни, и под барабанный бой, резкие звуки рожков, визг, свист и трели флейт, иной раз и под величественные звуки водяного органа, а то и пение появлялась первая пара, вступавшая в бой не на жизнь, а на смерть. Под музыкальное сопровождение на арену выходили все новые пары с самым различным вооружением, что позволяло держать публику в постоянном напряжении. Пока гладиаторы неспешно прощупывали друг друга, на трибунах то и дело вспыхивали споры и заключались пари зрителей, со всей страстью бравших то одну, то другую сторону. Они то подбадривали своего героя возгласами, то криками подсказывали ему тактику боя. Среди «болельщиков» были как восторженные поклонники отдельных известных бойцов, так и приверженцы определенных родов оружия. Так, «большие щиты» поддерживали мирмиллонов и самнитов, а «малые» — фракийцев. К этим партиям принадлежали граждане всех сословий, в том числе и император, а так как партии были настроены враждебно по отношению друг к другу, то иной раз неосторожно выраженные эмоции могли стоить жизни. В иной связи мы уже упоминали о трагической судьбе зрителя, поклонника «малых щитов», в то время как организатор игр Домициан причислял себя к «большим». Человек этот неосторожно заметил по поводу победы мирмиллона над фракийцем, что побежденный мог бы противостоять победителю, но не произволу устроителя. Домициан тут же приказал вытащить несчастного со своего места на арену, повесить на него табличку с текстом: «Малый щит — за дерзкий язык» — и затравить собаками. Подобные случаи дали повод Плинию Младшему (62-113 гг. н. э.) похвалить императора Траяна (98-117 гг.), в правление которого зрителям в амфитеатре вновь была предоставлена возможность свободно изъявлять свои чувства и аплодировать любому гладиатору, не боясь при этом поплатиться здоровьем или жизнью: «Теперь никому не ставится в упрек, как это обычно делалось прежде, пренебрежение к гладиаторам, никто из зрителей не обращается в предмет для зрелища, никто не искупает своего скромного удовольствия ни пыткой, ни костром. Безумен был тот и не имел понятия об истинной чести, кто на арене цирка искал виновных в оскорблении величества и думал, что если мы не уважаем его гладиаторов, то мы презираем и оскорбляем его самого, что все, что сказано дурно о них, сказано против него, что этим оскорблены его божественность и его воля. Ведь он себя самого считал равным богам, а гладиаторов — равными себе». Насколько большое значение придавалось принадлежности к таким партиям, видно из надгробной надписи раба и торговца маслом Кресцента: в цирке он был «синим», а в амфитеатре причислял себя к «малым щитам». Обычно гладиаторы дрались попарно, но часто устраивались и групповые бои, как, например, в том случае, о котором сообщает Светоний, когда пять ретиариев выступали против такого же числа секуторов. Но горе гладиатору, недостаточно смелому и решительному! В этом случае каждый из сидящих на скамьях чувствовал себя чуть ли не оскорбленным лично, и ярость толпы тут же обрушивалась на медлительного и не слишком желавшего собственной смерти бойца. «Режь, бей, жги! Почему он так робко бежит на клинок? Почему так несмело убивает? Почему так неохотно умирает?» Все эти реплики, требования и возгласы, зафиксированные Сенекой в одном из его писем, толпа, недовольная происходившим на арене, выкрикивала надсмотрщикам, тренерам и мастерам боя, стоявшим наготове для того, чтобы в любой момент заставить гладиаторов почувствовать, чего желает народ. Просто словами они не удовлетворялись, но бросали краткие страшные приказы подчиненным им рабам, чтобы те бичами подстегнули недостаточное воодушевление гладиаторов, не желавших убивать или умирать. «Дай ему! — требовали они. — Врежь хорошенько!» И их жертвам не оставалось ничего иного, как броситься в гущу боя. Тех же, кого так и не удавалось воодушевить, прижигали раскаленным железом. Как устроитель, так и зрители считали себя вправе требовать от бойцов настоящей резни. Каждый удар сверху, снизу, сбоку острием, наносимый одним гладиатором другому, толпа на скамьях сопровождала дикими возгласами (как, впрочем, и теперь во время поединков боксеров, корриды или петушиных боев). «Есть! Еще раз есть!» — гремело над ареной при каждом удачном выпаде. Точно так же при каждом ранении, наносимом гладиатору, на победу которого делалась ставка, раздавались крики отчаяния и разочарования, ведь многим приходилось дрожать за собственные деньги — ставки были немалые. То, отчего один вешал голову, у другого вызывало буйную радость — это когда падал на песок сраженный насмерть гладиатор. Однако отнюдь не всегда бои заканчивались смертельным ударом. В большинстве случаев побежденный оказывался всего лишь без чувств или, обессиленный от ран, опускался на колени. Если он не желал биться до последнего вздоха, то он отбрасывал щит и оружие в сторону, ложился на спину и просил о пощаде, поднимая левую руку и вытягивая большой или указательный палец. Право рокового решения принадлежало, собственно говоря, устроителю, однако уже во времена Империи существовал обычай, в соответствии с которым зрители могли требовать пощады или смерти побежденного. Если император уступал их требованиям, то, конечно, не от широты душевной, а из холодного расчета. Маленький человек, всю жизнь подчинявшийся кому-либо, в эти краткие мгновения испытывал сладость власти казнить и миловать. Прислушиваясь к гласу народному, император приоткрывал кран для выхода накопившейся агрессивности и приобретал таким образом благосклонность народа. Если гладиатор бился смело и даже в безвыходной ситуации оказывал сопротивление противнику, то зрители поднимали большой палец, махали платками, порой выкрикивая при этом: «Пусть бежит!» Побежденный боец мог покидать арену помилованным, если свой большой палец поднимал и император. Особым уважением пользовались гладиаторы, отклонявшие вмешательство народа и знаками дававшие понять, что раны их не настолько серьезны. Если же публика считала, что побежденный заслуживает смерти, потому что он вел себя как трус и стремился уклониться от боя, то большой палец опускался вниз и раздавались возгласы: «Убей его!» Судьба его была решена, если и большой палец императора указывал вниз. В этом случае побежденный должен был подставить победителю собственную шею для последнего удара. «Пусть предостережет тебя моя судьба. Ни ломаного гроша за павшего, кто бы он ни был!» — гласит надпись на могиле гладиатора, напрасно, по-видимому, молившего римлян о пощаде. Если же поединок заканчивался ничьей, что также порой случалось, то обычно оба бойца живыми покидали арену. Никто не победил, но и никто не проиграл. Такой вид пощады ценился, конечно, ниже, чем победа, но выше, чем милость, оказанная побежденным. Случалось, но довольно редко, что организовывались гладиаторские игры, на которых милость к израненным гладиаторам исключалась с самого начала и бой неизбежно продолжался до тех пор, пока в живых оставался лишь один из гладиаторов. «Он запретил гладиаторам биться без пощады», — сообщает Светоний об Августе, сокрушавшемся по поводу именно таких игр, устроенных, несмотря на тайное предупреждение, заносчивым дедом Нерона. Да и другие устроители и торговцы гладиаторами похвалялись тем, что приказывали убивать всех проигравших, ибо только так можно было совершенно удовлетворить жаждавшую крови толпу. Случай другого рода произошел в правление не привыкшего церемониться Домициана, прервавшего бой двух равных гладиаторов, дравшихся до изнеможения. Он обоих объявил победителями, подарив им rudis — деревянный меч, знак гладиаторской свободы, по поводу чего Марциал сложил очередной гимн императору: Так как затягивал Приск, да и Вар затягивал битву
и не давал никому долго успеха в ней Марс,
Требовать начал народ громогласно, чтоб их отпустили,
Цезарь, однако ж, свой твердо закон соблюдал:
Ради награды борьбу продолжать до поднятия пальца;
Всюду закон у него — в частых пирах и дарах.
Все же нашелся исход наконец борьбе этой равной:
Вровень сражались они, вровень упали они.
Цезарь обоим послал деревянные шпаги и пальмы:
Это награда была ловкому мужеству их.
Только под властью твоей совершилось, Цезарь, такое:
В схватке один на один тот и другой победил.
В подобных случаях император Траян столь же благосклонно относился ко всем бойцам. Довольно часто случалось и так, что победа не означала еще окончания боя, особенно в тех случаях, когда публика была недовольна победителем или же на арене выступал преступник, оставлять жизнь которому не желал никто. Поэтому в тот же день он дрался против следующего определенного жребием противника или даже третьего, заступавшего на место второго. Император Каракалла заставил однажды гладиатора Батона биться в очередь с двумя заместителями. Но три схватки за день сломили и Батона: то, чем с радостью наслаждался принцепс, гладиатору стоило жизни — с самого начала боя было ясно, что такой конец неизбежен; это было, конечно, ничем не прикрытое убийство. Для удаления с арены павших была придумана особо отвратительная процедура. Служители в масках, изображавших бога подземного царства Меркурия, с помощью раскаленного железа проверяли, действительно ли пресеклась нить жизни лежащего перед ними гладиатора, или же он еще вздрагивает. Таким образом находили и тех, которые лишь притворялись мертвыми от страха и отчаяния. И они, конечно, не уходили от своей судьбы. Их уносили с арены вместе с трупами, а иной раз и утаскивали крюками. Служители в масках и одеянии этрусского божества — спутника мертвых Харона с молотком, знаком его, в руке провожали их сквозь «Ворота смерти», ведшие в украшенную венками мертвецкую. Тех же, кто подавал признаки жизни, добивали. Во время пауз между боями мальчики и африканские рабы, а также другие слуги прибирали арену, перекапывали и разравнивали песок, подсыпая новый там, где он был пропитан кровью. Хоровод смерти мог продолжаться. Победивший гладиатор в знак своего успеха получал пальмовую ветвь, которой он гордо размахивал перед зрителями. В грекоязычных областях Римской империи вместо нее или наряду с нею он получал также и венок либо корону, которой увенчивали его. Хорошо показавшим себя популярным бойцам доставались солидные премии, дома и прочие ценные дары. Финансировал раздачу призов, проходившую по окончании «спектакля» под громовые овации и возгласы зрителей, устроитель. Светоний в своих биографиях римских императоров приводит тому несколько примеров. Так, Август «даже не на своих зрелищах и играх раздавал от себя и венки, и много дорогих подарков». Рассказывая о Клавдии, дававшем самые различные гладиаторские игры, он выделяет короткое, немногодневное внеочередное представление, которое император называл «спортула». Собственно говоря, под словом этим понималась закуска, которую раздавали в корзинках менее важным гостям, вместо того чтобы усадить их за стол. Поэтому Клавдий называл эти свои игры «спортулой» или «закуской», заявив по поводу первого увеселения такого рода: «Я приглашаю народ как бы к угощению неожиданному и неподготовленному». «На играх такого рода держался он всегда доступней и проще; даже когда победителю отсчитывали золотые монеты, он вытягивал левую руку и вместе с толпою громко, по пальцам, вел им счет. Много раз он приглашал и призывал зрителей веселиться, то и дело называя их хозяевами». Нерон определенно придерживался того мнения, что нет толку ни в деньгах, ни в богатстве, если нет возможности промотать их. По свидетельству Светония, «…людей расчетливых называл он грязными скрягами, а беспутных расточителей — молодцами со вкусом и умеющими пожить… Поэтому и сам он не знал удержу ни в тратах, ни в щедротах». Так, например, гладиатору Спикулу, бывшему, как и он сам, еще И кифаредом, он подарил имущество и дворцы триумфаторов, т. е. одарил, подобно победившему полководцу. 
Бои гладиаторов. Настенные рисунки и надписи из Помпей Марк Аврелий же, напротив, старался пресекать подобные крайности. Установив потолок цен на гладиаторов, он ограничил и тарифы их вознаграждений. Премия для свободного не должна была превышать четверти его покупной цены, а для бойца рабского сословия она ограничивалась одной пятой. Вечером праздничного дня играм подводился итог. Служитель амфитеатра отмечал в списке имена гладиаторов, проставляя напротив имени убитого латинскую букву «Р» — начальную литеру слова «periit» — павший, «V» — vicit — напротив имени победителя и «М» — missus (помилован) — напротив того, кого пощадили толпа и император. Последние, кстати, покидали арену через специальные ворота — Porta Sanavivaria, с тем чтобы через короткое время вновь биться на очередном народном празднестве. Счастливчиками считались немногие бойцы, которые добыли rudis — «меч свободы», а тем самым одновременно и освобождение от гладиаторской службы. «Удирать — ни-ни…»Лишь зная варварские правила, по которым проходили гладиаторские игры, можно правильно понять болтовню лоскутника Эхиона из Петрониева «Пира Трималхиона». После того как другой гость, Ганимед, типичный пессимист, высказал все возможные жалобы на счет постоянного вздорожания, упадка нравов, забвения религии и безобразий в Риме, лоскутник нарисовал совершенно розовую картину. Замечательно в его откровенной болтовне для нас то, как он оценивает возможности кандидатов, борющихся за политические посты. С одной стороны, это организатор игр, желающий оттеснить соперника, а с другой — еще один, но насколько критически оценивает организованные им бои говорящий. «Пожалуйста, — сказал Эхион-лоскутник, — выражайся приличнее. «Раз — так, раз — этак», как сказал мужик, потеряв пегую свинью. Чего нет сегодня, то будет завтра, в том вся жизнь проходит. Ничего лучше нашей родины нельзя было бы найти, если бы люди поумней были. Но не она одна страдает в нынешнее время. Нечего привередничать: все под одним небом живем. Попади только на чужбину, так начнешь уверять, что у нас свиньи жареные разгуливают. Вот, например, угостят нас на праздниках, в течение трех дней, превосходными гладиаторскими играми; выступит не какая-нибудь труппа ланистов, а несколько настоящих вольноотпущенников. И Тит наш — натура широкая и горячая голова: так или этак, а ублажить сумеет; уж я знаю, потому что я в его доме принят. Половинчатости он не терпит: гладиаторам будет дано первостатейное оружие; удирать — ни-ни; сражайся посередке, чтобы всему амфитеатру было видно, средств у него хватит: 30 000 000 сестерциев досталось, как отец его номер. Если он и 400 000 выбросит, состояние его даже и не почувствует, а он увековечит свое имя. У него уже есть несколько парней, и женщина-эсседария, и казначей Гликона, которого накрыли, когда он забавлял свою госпожу. Увидишь, как народ разделится между ревнивцем и любезником. Ну и Гликон! Грошовый человечишко! Отдает зверям казначея. Это значит выставить себя на посмешище. Разве раб виноват? Делает, что ему велят. Скорей бы следовало посадить быку на рога эту ночную вазу. Но так всегда — кто не может по ослу, тот бьет по седлу. И как мог Гликон вообразить, что из Гермогенова отродья выйдет что-нибудь путное? Тот мог коршуну на лету когти постричь. От змеи не родится канат (т. е. «яблоко от яблони недалеко падает»). Гликон, один Гликон внакладе: на всю жизнь пятно на нем останется, и разве смерть его смоет! Но всякий сам себе грешен. Да вот еще: есть у меня предчувствие, что Маммеа нам скоро пир задаст, — там-то уж и мне, и моим по два динария достанется. Если он сделает это, то отнимет у Норбана все народное расположение; вот увидите, что он теперь победит его на всех парусах. Да и вообще, что хорошего сделал нам Норбан? Дал гладиаторов дешевых, полудохлых, дунешь на них, и повалятся; и бестиариев видывал я получше; всадников, которых он дал убить, можно было счесть за человечков с ламповой крышки — сущие цыплята: один — увалень, другой — кривоногий, а тертиарий-то [третий дублер] — мертвец за мертвеца, с подрезанными жилами. Пожалуй, еще фракиец был ничего себе: дрался по правилам. Словом, всех после секли, а вся публика кричала: «Наддай!» Настоящие зайцы! Он скажет: «Я вам устроил игры», а я ему: «А мы тебе хлопаем». Посчитай и увидишь, что я тебе больше даю, чем от тебя получаю. Рука руку моет». Разочаровавшие толпу гладиаторы должны были быть счастливы, что отделались так дешево — только побоями. Морские сражения на потеху толпеО массовых гладиаторских битвах мы уже упоминали выше. Они случались довольно редко и чаще всего не в амфитеатре, слишком малом для подобных зрелищ. Так, например, в 46 г. до н. э. Цезарь приурочил к своему триумфу сражение двух отрядов, в состав каждого из которых входили по 500 пеших солдат, 300 всадников, а также 20 слонов, на спинах которых в специальных башенках также располагались вооруженные бойцы. Проходило оно в цирке.[57] Еще одна грандиозная резня состоялась в 7 г. до н. э. в честь умершего пятью годами раньше Агриппы в построенной им Септе.[58] По свидетельству Светония, в 44 г. Клавдий после победы в Британии «дал на Марсовом поле военное представление, изображавшее взятие и разграбление города, а потом покорение британских царей, и сам распоряжался, сидя в плаще полководца». Для несколько меньшего боя между пехотинцами, устроенного Нероном в 57 г., арены амфитеатра было вполне достаточно, в то время как триумфальные игры Домициана, в которых принимали участие конные и пешие гладиаторы, проходили в цирке. Но истинной кульминацией всех этих кровавых игрищ были, несомненно, настоящие морские сражения, устраивавшиеся для развлечения толпы. Затопляя огромные пространства, устраивали искусственные озера. На них выпускали корабли со специально обученными гладиаторами, особенно из числа военнопленных, вступавшими в смертельную схватку на воде. Традиция эта восходит к Цезарю. В 46 г. до н. э. он первым устроил в связи со своим четырехкратным триумфом подобный спектакль на озере, специально для этого устроенном на Марсовом поле. Противоборствующие стороны в составе тысячи матросов и 2000 гребцов, посаженных на различные корабли, отчаянно бились друг против друга, представляя тирийский и египетский флоты. По свидетельству Светония, «на все эти зрелища отовсюду стекалось столько народу, что много приезжих ночевало в палатках по улицам и переулкам; а давка была такая, что многие были задавлены до смерти, в том числе два сенатора». Через год после смерти Цезаря, т. е. в 43 г. до н. э., озеро на Марсовом поле было засыпано, так как считали, что его дурно пахнувшие испарения способствовали распространению зверствовавшей тогда эпидемии. Тысячи и тысячи гладиаторов и гребцов, гораздо больше, чем во времена Цезаря, выступали в другой большой морской битве, устроенной Августом во 2 г. до н. э. в связи с освящением храма Марса Ультора (Мстителя), воздвигнутого в честь Цезаря. Для этого на правом берегу Тибра, примерно напротив засыпанной арены первой битвы на воде, было выкопано огромное озеро, размерами своими — 557 х 536 м — втрое превосходившее площадь Колизея. Берега его окружали кустарники, рощи и сады, а устроенный посредине искусственный остров позволял выполнять искусные тактические маневры. Озеро это со всеми сооружениями, продолжавшее существовать и в дальнейшем, именовалось навмахией; этим словом обозначались и водные гладиаторские бои. На его глади вступили в кровавую битву на потеху многотысячной толпе вооруженные силы «афинян» и «персов», размещенные на тридцати остроносых биремах и триремах, а также множестве более мелких кораблей. Римский поэт Овидий (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.), заметивший, что огромное стечение народа из всех уголков страны, случавшееся при такого рода увеселениях, благоприятствовало новым знакомствам и флирту, в своей поэме «Наука любви» так восхваляет эту морскую битву: А вспоминать ли о том, как Цезарь явил нам морскую
Битву персидских судов и кекропийских судов,[59]
Как от закатных морей до восточных морей собирались
Юноши с девами в Рим, разом вместивший весь мир?
Кто в подобной толпе не нашел бы предмета желаний?
Многих, многих, увы, пришлый замучил Амур.
Однако предшествующие и все последующие гладиаторские морские сражения затмила навмахия, устроенная Клавдием в 52 г. н. э. на Фуцинском озере (Лаго ди Челано). Незадолго перед разрушением перемычки в конце туннеля, прокладывавшегося много лет через Абруццкие Апеннины, он использовал последнюю возможность перед спуском озера в Лирис (Гарлиано) для того, чтобы устроить на нем колоссальное морское сражение. Выше мы уже упоминали об этом, приведя краткое свидетельство Светония. Подробнее сообщает о нем Тацит в своих «Анналах»: «Клавдий снарядил триремы и квадриремы, посадив на них девятнадцать тысяч человек; у берегов озера со всех сторон были расставлены плоты, чтобы сражающимся некуда было бежать, но внутри этого ограждения оставалось довольно простора для усилий гребцов, для искусства кормчих, для нападения кораблей друг на друга и для всего прочего, без чего не обходятся морские бои. На плотах стояли манипулы преторианских когорт[60] и подразделения конницы, на них же были возведены выдвинутые вперед укрепления с готовыми к действию катапультами и баллистами, тогда как остальную часть озера стерегли моряки на палубных кораблях». Знак к началу битвы подавал серебряный тритон — греческий морской бог, по виду наполовину человек, наполовину дельфин, — с помощью машины поднимаясь из воды. «Берега, холмы, вершины окрестных гор заполнили, как в амфитеатре, несметные толпы зрителей, привлеченных из ближних городов и даже из Рима жаждою к зрелищам, тогда как иных привело сюда стремление угодить принцепсу. Сам он в роскошном военном плаще и недалеко от него Агриппина в вытканной из золотых нитей хламиде [широкой греческой накидке] занимали первые места. И хотя сражение шло между приговоренными к смерти преступниками, они бились, как доблестные мужи, и после длительного кровопролития оставшимся в живых была сохранена жизнь. По окончании зрелища, разобрав запруду, открыли путь водам; но тут стала очевидной непригодность канала, подведенного к озеру выше уровня его дна или хотя бы до половины его глубины. Из-за этого в течение некоторого времени продолжались работы по его углублению, и затем, чтобы снова привлечь народ, на озере возводится помост для пешего боя, и на нем даются гладиаторские игры. Возле места, где озеру предстояло устремиться в канал, было устроено пиршество, участников которого охватило смятение, когда хлынувшая с огромной силой вода стала уносить все попадавшееся на ее пути, сотрясая и находившееся поодаль, сея ужас поднятым ею ревом и грохотом. Воспользовавшись испугом принцепса, Агриппина принимается обвинять ведавшего работами на канале Нарцисса[61] в алчности и хищениях, но и он не молчит, упрекая ее в женской необузданности и в чрезвычайно высоко метящих замыслах». Корабельные бои происходили и на арене амфитеатров, заливавшихся для этого водой. Уже в деревянном амфитеатре, построенном в 57 г. н. э. по приказу Нерона на Марсовом поле, устраивались такого рода зрелища. На глади искусственного пруда, в котором плавали рыбы и морские животные, сражение вели «афиняне» и «персы». Затем вода была вновь спущена и арена осушена, и зрители могли насладиться видом резни на суше. Аналогичное водное сражение воспевает и Марциал в своей «Книге зрелищ»: Если из дальней страны запоздалый ты, зритель, явился
И для тебя первый день зрелищ священных теперь,
Пусть не обманет тебя Эниона морская судами,
Точно на волнах морей: суша была здесь сейчас.
Ты мне не веришь? Смотри на подвиги водного Марса —
Миг — и воскликнешь уже: «Море здесь было сейчас».
На празднике, состоявшемся там же в 64 г., Тигеллин[62] включил в его программу еще один пункт. В начале игр также состоялась морская битва, затем были организованы гладиаторские бои. В завершение празднества арена была вновь затоплена, и Тигеллин устроил великолепный пир на воде. До него пир на кораблях давал Нерон, использовав место бывшей навмахии Августа. Та же самая старая навмахия служила местом проведения блистательных игр, устроенных в 80 г. Титом в рамках 100-дневного празднества по случаю открытия Колизея. По его приказу искусственное озеро было укрыто бревнами, и на построенной таким образом площадке состоялись гладиаторские игры для народа, а также «травля 5000 разных диких зверей», как сообщает Светоний. Во второй день то же самое место служило ареной состязаний боевых колесниц. На третий день последовала битва между «афинянами» и «сиракузянами», завершившаяся победой «афинян», пробившихся наконец к маленькому острову и взявших крепость, расположенную на нем. Неудивительно, что придворный поэт Марциал пришел от этой битвы в восхищение и оценил ее выше, чем знаменитое сражение на Фуцинском озере: Август устроил, чтоб здесь ходили в сражение флоты
И корабельной трубой гладь будоражилась вод.
Цезаря нашего дел это часть ничтожная: чуждых
Зрели Фетида в волнах и Галатея зверей;
Видел Тритон, как летят по водной пыли колесницы,
И за Нептуновых он мчащихся принял коней;
Вздумав жестоко напасть на суда враждебные, в страхе
Пред обмелевшей водой остановился Нерей.
Все, на что мы глядим и в цирке, и в амфитеатре,
Все это, Цезарь, тебе щедрой водою дано.
Пусть же умолкнут Фуцин и пруды злодея Нерона:
Будут в веках вспоминать лишь навмахию твою.
Тит устроил морскую битву между «коркирейцами» и «коринфянами» и в амфитеатре Флавиев. Домициан, все время завидуя предшественнику и брату Титу и стремясь его превзойти, приказал не только залить арену Колизея водой и устроить там сражение, но и выкопать неподалеку от Тибра новое большое озеро и окружить его трибунами для зрителей. В битве, устроенной там в 89 г., принимало участие почти столько же кораблей, сколько и в настоящем морском сражении. Печальный итог всех этих отмеченных манией величия мероприятий подвел через сто лет после того греческий историк Дион Кассий (ок. 150–230 г. н, э.), смотревший на блистательную резню несколько в ином свете, чем бывший с императорами на дружеской ноге придворный поэт. Ведь жизнью поплатились не только все гладиаторы, но и многие зрители: «Когда внезапно разразился ужасный дождь, сопровождавшийся сильнейшим ветром, он никому не позволил покинуть зрелище для того, чтобы переодеться, в то время как сам менял один плащ за другим. Многие простудились и умерли. Чтобы утешить людей, он приказал угощать их всю ночь напролет». Император Траян (98-117 гг. н. э.), при котором Римская империя достигла наибольших размеров, также развлекал народ морскими сражениями. Наряду с новым амфитеатром — amphitheatrum Castrense — он повелел устроить еще одну арену для морских сражений — naumachia Vaticana — к северо-западу от воздвигнутой позднее усыпальницы Адриана (замок Ангела). В ознаменование тысячелетия города Рима, праздновавшегося в 248 г. н. э., битву на воде устроил император Филипп Араб (244–249 гг. н. э.). Страх перед гладиаторами«Ведь его… Блез умертвил минувшею ночью руками своих гладиаторов, которых он держит и вооружает на погибель нам, воинам. Отвечай, Блез, куда ты выбросил труп? Ведь даже враги, и те не отказывают в погребении павшим. Когда я утолю мою скорбь поцелуями и слезами, прикажи умертвить и меня». Об этих тяжких обвинениях, брошенных подстрекателем Вибуленом, сообщает нам Тацит в своих «Анналах». Эпизод разворачивался на фоне опасного мятежа трех расквартированных на Дунае паннонских легионов, возникшего в 14 г. н. э. после вступления на трон императора Тиберия. Командовал ими легат Юний Блез, разместивший в лагере наряду с регулярными войсками и собственный гладиаторский отряд. Этих сорвиголов он использовал по собственному произволу, чтобы убирать неугодных солдат, так по крайней мере утверждал Вибулен, один из главарей мятежа. Жертвой последней ночи якобы стал его собственный брат. «Свою речь он подкреплял громким плачем, ударяя себя в грудь и в лицо; затем, оттолкнув тех, кто поддерживал его на своих плечах, он спрыгнул наземь и, припадая к ногам то того, то другого, возбудил к себе такое сочувствие и такую ненависть к Блезу, что часть воинов бросилась вязать гладиаторов… часть — прочих его рабов, тогда как все остальные устремились на поиски трупа. И если бы вскоре не стало известно, что никакого трупа не найдено, что подвергнутые пыткам рабы решительно отрицают убийство и что у Вибулена никогда не было брата, они бы не замедлили расправиться с легатом. Все же они прогнали трибунов[63] и префекта лагеря, разграбили личные вещи бежавших…» Это был далеко не первый и не последний случай использования гладиаторов вне арены. Римляне чувствовали себя в безопасности перед гладиаторами, если те были на арене или в зорко охранявшихся казармах, так же как перед хищниками за решеткой. Но ужас и тревога охватывали их, если жестокие, отчаянные молодцы вырывались оттуда либо их пытались использовать для достижения своих целей тщеславные политики, мятежники и заговорщики. Бегство Спартака и его товарищей из капуанской школы в 73 г. до н. э. привело даже к серьезному восстанию рабов. Страх, охвативший Рим в ту пору, вспыхивал вновь и вновь всякий раз, когда гладиаторы опять оказывались на свободе. Так, «в народе уже вспоминали о Спартаке и былых потрясениях» (Тацит), когда при Нероне (54–68 гг. н. э.) гладиаторы чуть не вырвались из казармы Пренесты (Палестрина). Однако стража подавила эту попытку, так же как и еще одну, менее опасную, предпринятую 80 гладиаторами в Риме во времена императора Проба (276–282 гг.). Не меньшей представлялась и опасность со стороны банд гладиаторов, принадлежавших революционно настроенным политикам. Так, 21 октября 63 г. до н. э. сенат, заседая в связи с необходимостью подавления заговора Каталины, наряду с другими решениями постановил удалить из Рима гладиаторские отряды, передислоцировав их в Капую и другие города страны, с тем чтобы с самого начала выбить из рук заговорщиков очень важные козыри. Насколько оправданной была такая предосторожность, показали позднее бесчинства народных трибунов — демагогов Клодия и Милона, использовавших шайки гладиаторов. Теперь становится понятным, почему в 49 г. до н. э., в начале гражданской войны, приверженцев Помпея охватил страх перед бойцами Цезаря, содержавшимися им в капуанской школе. Осужденная всеми попытка консула Лентула включить их в состав армии была сведена на нет Помиеем, распределившим гладиаторов между римскими семьями в качестве телохранителей. Марку Антонию, напротив, удалось привлечь их к своей борьбе против Августа, причем они довольно долго оставались ему верны. Армии Л. Антония и Д. Брута[64] также были усилены гладиаторами. Точно так же и Сакровир, поднявши в 21 г. н. э. восстание против владычества Рима, призвал в свое войско в качестве солдат галльских бойцов-крупеллариев, или «латников». «Несколько гладиаторов-фракийцев он поставил начальниками над германскими телохранителями, гладиаторам-мирмиллонам он убавил вооружение» — то, что сообщает Светоний об использовании императором Калигулой гладиаторов в качестве личной охраны (а Сабин, отличавшийся необыкновенной физической силой, поднялся даже до должности трибуна преторианцев), вполне соответствует и их применению императором Нероном, составившим из них отряд, во главе которого он по ночам рыскал по улицам города, пугая римлян. Набирали гладиаторов в свои войска также императоры Отон, Вителлий, Марк Аврелий и Дидий Юлиан. Когда в 69 г. н. э., после смерти Нерона и вскоре после убийства Гальбы, в споре за власть столкнулись Отон и Вителлий, Отон усилил свои войска 2000 гладиаторов. По словам Тацита, это была «постыдная разновидность вспомогательного войска, которой, однако, в пору гражданских войн не брезговали и более взыскательные полководцы». Однако бойцы, обученные ведению поединков на арене, защищали позиции Отона на реке По отнюдь не так мужественно, как регулярные войска. Солдатской стойкости и смелости недоставало и гладиаторам, нанятым более успешно действовавшим Вителлием: представившуюся впоследствии благоприятную возможность они использовали для того, чтобы перебежать к его последнему и более удачливому сопернику Веспасиану. Но и Веспасиану было от них немного радости, ибо, по словам Тацита, при штурме Тарацины лишь «несколько гладиаторов оказали отпор врагу и дорого продали свою жизнь, остальные устремились к кораблям, где их ждала та же гибель». «На безрыбье и рак — рыба», — гласит известная пословица. Тем же самым правилом руководствовались и в Риме, если нужда в «пушечном мясе» становилась особенно острой. Именно такая ситуация возникла в результате германских вторжений, и тогда Марк Аврелий (121–180 гг. н. э.) вынужден был в начале первой Маркоманнской войны (166–175 гг.) пополнить обескровленную чумой армию отбросами общества — рабами, бандитами и гладиаторами, использовавшимися им в деле спасения отечества в качестве вспомогательных войск. Отряду гладиаторов, который он вооружил, находясь в столь тяжелом положении, было присвоено многообещающее название «Послушные». В 193 г., во время гражданской войны, услугами капуанских гладиаторов решил воспользоваться и император Дидий Юлиан, сидевший в Риме, когда узнал, что к городу подходят войска Севера. Гладиаторы, обученные в своих казармах биться не на жизнь, а на смерть, вместо того чтобы развлекать народ, могли быть направлены против него твердой рукой безответственного политика. Сознание того, что инкорпорированные в общество гладиаторы представляют собой постоянную угрозу его безопасности, порождало страх и панику при всяком новом происшествии, связанном с ними. Подобное же чувство опасности, охватившее многих, возникло, естественно, и в результате участия одного из членов императорского отряда гладиаторов в убийстве Домициана 18 сентября 96 г. н. э. Измученный дурными предчувствиями и потрясенный предсказаниями астролога Асклетариона и затем германскою гадателя, через некоторое время вследствие обмана император все же поверил, что опасность миновала. Обрадовавшись, он по своему обыкновению поспешил было в баню перед тем, как приступить к обеденной трапезе, «по спальник Парфений остановил его, сообщив, что какой-то человек хочет спешно сказать ему что-то важное», сообщает Светоний. Тогда, отпустивши всех, он вошел в спальню и там был убит. О том, как убийство было задумано и выполнено, рассказывают так: «Заговорщики еще колебались, когда и как на него напасть — в бане или за обедом; наконец, им предложил совет и помощь Стефан, управляющий Домициллы, который в это время был под судом за растрату. Во избежание подозрения он притворился, будто у него болит левая рука, и несколько дней подряд обматывал ее шерстью и повязками, а к назначенному часу спрятал в них кинжал. Обещав раскрыть заговор, он был допущен к императору; и пока тот в недоумении читал его записку, он нанес ему удар в пах. Раненый пытался сопротивляться, но корникуларий[65] Клодиан, вольноотпущенник Парфений Максим, декурион спальников[66] Сатур и кто-то из гладиаторов набросились на него и добили семью ударами». В сравнении с огромными массами рабов гладиаторы составляли ничтожное меньшинство. Однако опасности, исходившей от вооруженных и обученных бойцов, римляне боялись больше, чем восстания рабов. Отбросы обществаГладиаторов не просто боялись, напротив, общество относилось к ним с презрением и отвращением. По своему социальному положению они стояли на той же ступени, что и торговавшие собственным телом женщины и мужчины, с которыми их сравнивали Сенека и Ювенал. Они считались отбросами общества, как бы прокаженными, наряду с некоторыми категориями преступников и людьми низменных профессий. Закон, поставивший их в столь позорное положение, превращал гладиаторов в объект народного увеселения на арене без права на личную жизнь. Гладиатор не мог быть свободен, даже если он не был принужден к этому занятию в качестве раба, военнопленного или уголовного преступника, осужденного к такому наказанию, а являлся вольнонаемным добровольцем. Не имевший достоинства не мог быть достойно похоронен. Исключения допускались, лишь если того настойчиво требовали близкие убитого гладиатора, хозяин, собратья по оружию, друзья либо поклонники его таланта, подкрепляя свои устремления соответствующими денежными суммами. Многочисленные надгробные надписи показывают, что подобные случаи все же не были редкостью, раскрывая, однако, мотивы тех, кто столь усердно пекся о погребении. Так, иные владельцы гладиаторов устраивали монументальное захоронение для всех жертв только что окончившихся игр, считая, что тем самым демонстрируют свою щедрость. Некий Константин из Тергеста (Триест) сообщает на памятнике именно такого типа, что воздвиг его в благодарность за полученное разрешение на проведение гладиаторских игр. Очевидно, это производило впечатление на гладиаторов, так же как и щедрый жест Нерона, повелевшего украсить носилки погибших бойцов янтарем. Относительно своего будущего гладиатор не питал обманчивых надежд. Переживший все бои и получивший в знак освобождения деревянный меч гладиатор мог, подобно немногим другим счастливцам, посвятить себя частной жизни. Иной раз и случай играл в этом немалую роль. Послушаем Светония: Клавдий дал «одному колесничному гладиатору почетную отставку по просьбе его четверых сыновей и под шумное одобрение всех зрителей, а потом тут же вывесил объявление, указывая народу, как хорошо иметь детей, если даже гладиатор, как можно видеть, находит в них защитников и заступников». Но чаще всего гладиаторы становились жертвами кровавой резни на арене еще в молодые годы. «Пал после пяти боев, 22 лет от роду, на шестом году супружества» — такова одна из типичных надгробных надписей. Но по приказу гордеца пал ты, о мирмиллон,
С одним мечом, в руках зажатым.
И ретиарием с трезубцем ты был знатным.
Покинул, бросил ты меня, и мой удел теперь —
И нищета, и страх —
так оплакивает молодая женщина в одном папирусе смерть своего возлюбленного, гладиатора. Подобным же образом звучат и надписи, выбитые по просьбе гладиаторских вдов на памятниках их мужей. Интересно, что часто они писались так, как если бы заговорил сам умерший. В них и теперь слышится и смертная тоска, и мечта о посмертной славе: «От ран погиб я, не от противников мечей»; «Любимый всеми»; «Меня не противник, а судьба победила»; «Полинейк прикончил вероломного Пиннаса и тем отомстил за меня»; «Никто не страдал из-за меня, а вот теперь страдаю я»; «Многих противников я пощадил». «Девочек ночных властитель и врачеватель»Гладиаторов не только боялись, презирали и отвергали — их еще и любили. Победоносные и красивые собой бойцы пользовались у посетителей амфитеатра огромной популярностью. Их искусство прикончить противника, храбро сражаясь на арене, и доставить публике удовольствие лицезреть «прекрасную смерть» вызывало у мужчин возгласы восхищения, а у женщин — вздохи сердечной страсти. О заветных мечтах девушек и женщин всех сословий свидетельствуют многочисленные надписи на стенах домов Помпей. Так, например, одна из надписей на колоннах перистиля в доме, раскопанном в 1880 г., называет фракийца Целада «отрадой и мечтой девушек» («suspirium puellarum… puellarum decus»), а ретиарий Кресцент именуется даже «девочек ночных властителем и врачевателем» («рирагги domnus; puparum nocturnarum… medicus»). Изображения этих донжуанов мы находим и на памятниках. Мы видим гладиаторов с прекрасно сложенной фигурой и великолепными прическами, которые не могли не производить впечатление на поклонниц. «Ты уверен в своей красоте и поэтому, разыгрывая гордеца, торгуешь объятьями, а не даришь их. Зачем эти тщательно расчесанные волосы? Зачем лицо покрыто румянами? К чему эта нежная игра глазами, эта искусственная походка и шаги, ровно размеренные? Разве не для того, чтобы выставлять красоту свою на продажу?» — пеняет на страницах Петрониева «Сатирикона» служанка Хрисида уволенному из гладиаторов за негодностью Энколпию. В него, представившегося рабом по имени Полиэн, влюбилась прекрасная Кирка. Ее служанка, которой поручено устроить свидание с объектом страсти госпожи, так говорит Энколпию: «Так вот, если ты продаешь то, что нам требуется, так ваш товар, наш купец; если же — что более вяжется с человеческим достоинством — ты делишься своими ласками бескорыстно, то сделай это в виде одолжения. А что касается твоих слов, будто ты раб и человек низкого происхождения, так этим ты только разжигаешь желание жаждущей. Некоторых женщин возбуждает нечистоплотность: сладострастие в них просыпается только при виде раба или вестового, высоко подпоясанного. Других распаляет вид гладиаторов, или покрытого пылью погонщика ослов, или, наконец, актера на сцене, выставляющего себя напоказ. Вот из такого же сорта женщин и моя госпожа: она от орхестры мимо четырнадцати рядов[67] проходит и только среди самых подонков черни отыскивает себе то, что ей по сердцу». Даже и на дам высшего света мощь гладиаторского оружия производила неизгладимое впечатление. Поэтому бойцы арены представлялись им подобными Гиацинту, любимцу Аполлона, убитому им по нечаянности, из пролившейся крови которого и родился одноименный цветок. Этим сравнением пользуется Ювенал в своей едкой сатире на Эппию, ведущую себя столь же отвратительно, как Мессалина,[68] ибо воспылала любовью к гладиатору с постоянно слезящимися глазами, обезображенному шрамами и опухолями: Впрочем, что за краса зажгла, что за юность пленила Эппию?
Что увидав, «гладиаторши» прозвище терпит?
Се?ргиол, милый ее, уж давно себе бороду бреет,
Скоро уйдет на покой, потому что изранены руки,
А на лице у него уж немало следов безобразных:
Шлемом натертый желвак огромный по самому носу,
Вечно слезятся глаза, причиняя острые боли.
Все ж гладиатор он был и, стало быть, схож с Гиацинтом.
Стал для нее он дороже, чем родина, дети и сестры,
Лучше, чем муж: ведь с оружием он!
Казанова Эпиии, как видим, вовсе не был Адонисом, но… гладиатором и потому достойным греха! Естественно, что такая слабость слабого пола к гладиаторам, среди которых были, несомненно, и настоящие герои, не оставалась без последствий. Так, например, предполагали, что Нимфидий Сабин, советник Нерона и префект претория, был сыном гладиатора Марциана, в которого из-за его славы влюбилась мать Сабина, вольноотпущенница. Если соответствуют действительности слухи относительно сомнительного происхождения Курция Руфа, удостоенного императором Клавдием триумфа и получившего в управление провинцию Африка, то его судьба была еще большим взлетом. С пренебрежением Тацит говорит следующее: «Некоторые передают, что он сын гладиатора, не стану утверждать ложного и стыжусь сказать правду». Самый известный слух такого рода касался императора Коммода. Злые языки говорили, что его отец — не Марк Аврелий, а некий гладиатор, ибо Фаустина, жена Марка Аврелия, имела в Кайете внебрачные связи с матросами и гладиаторами. В наши дни роль гладиаторов — сердцеедов и отрады девушек взяли на себя звезды эстрады, и как вчера, так и сегодня поклонницы с приходом ночи одинаково страстно заключают их в свои объятия. Времена меняются — страсти остаются. Воспетые поэтамиБольшую часть гладиаторов общество презирало, отталкивало и боялось, но некоторые из них были любимы толпой и воспеваемы поэтами. Так, Марциал превозносит гладиатора Гермеса, одинаково непобедимого в трех основных видах оружия: в качестве легко вооруженного велит а, ретиария с сетью и трезубцем или же в тяжелом вооружении самнята. Чтобы увидеть его, мастера боевого искусства и учителя гладиаторов, которого никто не мог заменить на арене, публика устремлялась в амфитеатр: Гермес — Марсова племени утеха, Гермес может по-всякому сражаться, Гермес — и гладиатор и учитель, Гермес — собственной школы страх и ужас, Гермес — тот, кого сам боится Гелий, Гермес и Адволанта презирает, Гермес всех побеждает невредимый, Гермес сам себя в схватках замещает, Гермес — клад для барышников у цирка, Гермес — жен гладиаторских забота, Гермес с бранным копьем непобедимый, Гермес грозный своим морским трезубцем, Гермес страшный и в шлеме под забралом, Гермес славен во всех деяньях Марса, Гермес вечно един и триединый. Впрочем, восхищения публики удостаивались лишь виртуозы, уделом же париев было всеобщее презрение. Гладиаторский культ одних поднимал на щит, в то время как другие влачили жалкое существование. Удача могла принести звезде арены и уважение, и богатство; участью же заурядных бойцов становилась смерть. Подвиги героев на арене и в постели представляли собой одну из самых популярных и неисчерпаемых тем сплетен в римском обществе (отголоски этого слышны у Эпиктета и Горация): иных приглашали даже во дворцы богатых и знатных, с тем чтобы иметь возможность и рассмотреть их вблизи, и украсить свое общество их присутствием. О великих гладиаторах говорили все, и потому становятся понятными слова Тацита о том, что дети римлян впитывают интерес к гладиаторам чуть ли не с молоком матери. Неудивительно, что римские дети охотно играли в гладиаторов. От поэтов не отставали и художники: в Риме и его провинциях — от далекой Керчи в Южной России до африканской Кирены — они украшали дворцы и виллы, храмы, театры и надгробные памятники скульптурами, мозаиками и росписями, увековечившими славу гладиаторов. Так, еще в 145 г. до н. э. мастер монетного дела К. Теренций Лукан приказал запечатлеть финансировавшиеся им игры на картине, предназначавшейся для храма Дианы в Ариции, — пример, которому в императорскую эпоху следовали многие. Некий вольноотпущенник Нерона заказал роспись общественного портика в Антии, изображавшую гладиаторские бои. Живопись этого жанра встречается и в помпейском амфитеатре. Сцены охоты и гладиаторских боев с указанием имени, школы и достижений каждого бойца, выполненные в технике гипсового рельефа, украшают надгробие помпейского торговца рыбной пастой (гарумом) Умбриция Скавра. Огромные мозаичные изображения гладиаторских схваток открыты в Торре-Нуова, неподалеку от Тускула (III в. н. э.), а мозаика еще больших размеров — на Косе, одном из островов в юго-восточной части Эгейского моря. И в те времена от искусства до китча был всего лишь один шаг. Теперь промышленность наводит рекламный глянец на победителей Олимпийских игр, тогда то же самое происходило со звездами арены. Лавки ломились от горшков и блюд, светильников и кубков, гемм и перстней с портретами гладиаторов. Подвиги популярных бойцов прославляли многочисленные надписи, выведенные на стенах домов гвоздем или углем. По большей части их находят именно на стенах домов, но они имеются, например, и в термах богатого Милета, на западном побережье Малой Азии, и в святилище фракийского божества Аццанаткона в месопотамском городе Дура-Европос. Иные настенные изречения наводят на мысли и о гомосексуальных наклонностях писавших. Счастливчику, избегнувшему всех опасностей и завоевавшему свободу в многочисленных боях, открывались различные жизненные пути. Иным приходилось удовлетвориться положением бродячих жрецов римской богини войны Беллоны. На долю других выпадала лучшая участь: повесив свое оружие (как приношение) в храме Геркулеса, они продолжали жизнь в собственном поместье. Например, надписи из малоазиатских городов Гиераполя (Памуккале) и Миласы (Милас) свидетельствуют, что некоторые ушедшие на покой гладиаторы достигали довольно высокого общественного положения. Особым расположением пользовался, по-видимому, отставной боец из Анкиры (Анкара), которого не менее семи городов по обе стороны Эгейского моря провозгласили почетным гражданином. Коммод — император и гладиаторНе только римские дети охотно играли в гладиаторов — взрослые также во все большей степени отдавались этому «досугу». Подавляющее большинство римлян одобряло независимо от своей принадлежности к тому или иному слою общества кажущиеся нам столь жестокими и бесчеловечными гладиаторские игры; и даже образованные люди, такие, как Плиний Младший, рассматривали их в качестве наилучшего средства для боевой подготовки молодежи. Поэтому участие молодых людей в гладиаторских играх считалось подходящим времяпрепровождением, которое должно было способствовать военной закалке народа, не знающего страха ни перед ранами, ни перед самой смертью. Дилетанты с гладиаторским оружием в руках были уже во времена Республики, а страсть испытать себя хотя бы с деревянным мечом охватывала даже представителей высших слоев общества — всадников и сенаторов. Именно такие римские всадники и сенаторы, сами отлично владевшие оружием, по просьбе Цезаря обучали даже молодых гладиаторов в его школах. Впрочем, и многие императоры были страстными поклонниками гладиаторского искусства и не раз пытались сравняться с героями арены. Калигула первым из римских принцепсов стал обучаться гладиаторскому искусству и выступал с боевым оружием как «фракиец». Его невероятная приверженность этому роду оружия выражалась как в том, что он сделал нескольких гладиаторов-фракийцев своими телохранителями, так и в его отвращении к мирмиллонам, вооружение которых он приказал уменьшить. То, насколько Калигула ненавидел гладиаторов именно этого типа, проявилось однажды в его бою с профессиональным тренером. «Даже в часы отдохновения, среди пиров и забав, свирепость его не покидала ни в речах, ни в поступках, — сообщает Светоний. — Мирмиллон из гладиаторской школы бился с ним на деревянных мечах и нарочно упал перед ним, а он прикончил врага железным кинжалом и с пальмой в руках обежал победный круг». Юношей выступал в показательных боях с гладиаторским оружием и правивший позже император Тит. Адриан и Лунин Вер также обучались гладиаторскому искусству. Императора Дидия Юлиана упрекали в том, что, уже будучи стариком, он все еще упражнялся с мечами, а братья Каракалла и Гета специально подбирали гладиаторов, обучавших их своему искусству. Но в поклонении гладиаторам превзошел всех Коммод (180–192 гг.). «Жил он исключительно собственными удовольствиями, был любителем лошадей и еще большим приверженцем боев с участием людей и животных», — рассказывает о нем греческий историк и римский сенатор Дион Кассий. Тренировался он словно одержимый, участвовал в гладиаторских боях. Несмотря на то что уже в 31 год он пал жертвой покушения, до того он успел провести 1000 боев, причем 365 из них во время правления отца, а остальные — будучи единоличным правителем. Естественно, что из всех схваток он выходил победителем независимо от того, выступал ли он на играх, устраивавшихся претором Клодием Альбииом на форуме или происходивших во дворце или в амфитеатре. Особенно он гордился тем, что в качестве секутора мастерски бился с мечом в левой руке. Он приканчивал всех животных, натыкавшихся на его меч. С людьми же, выступавшими против него, он обходился по-разному. Его современник Дион Кассий так повествует об этом: «В качестве гладиатора Коммод выступал и в собственном дворце, причем некоторых своих противников он убивал; к другим он подходил, словно бы собираясь брить их, с бритвой в руке и отрезал нос, ухо или еще что-нибудь. Впрочем, публично дрался он без использования настоящего оружия и без пролития крови. Так, однажды перед визитом в театр на нем было белое шелковое шитое золотом платье с рукавами. В нем он принял и нас. Но, выразив желание пойти в театр, он надел пурпурные шитые золотом одежды поверх греческой хламиды того же цвета. На голове его индийскими драгоценными камнями сверкала корона, а в руке был обвитый змеями жезл Меркурия. Львиную шкуру и палицу несли по улицам впереди него, а в театре возлагали на золотое кресло независимо от того, присутствовал он сам или нет». В безмерном своем тщеславии Коммод уподоблял себя второму Геркулесу, полубогу и герою греко-римских сказаний, побеждавшему людей и зверей, великанов и чудовищ. Поэтому на пьедестале собственной статуи, изображавшей его в образе Геркулеса, Коммод, объятый манией величия, приказал выбить, что на арене он одолел 12 000 противников. Ни больше ни меньше! Божественную роль Геркулеса, победителя великанов, Коммод играет и в следующем эпизоде, также рассказанном Дионом Кассием. Вот вам еще один отвратительный пример прямо-таки мифологической жестокости: «Однажды он приказал собрать всех мужчин в городе, ноги которых были изувечены болезнью либо несчастным случаем, замотать их ноги так, чтобы они стали похожи на змеиные тела, и выдать им вместо камней, которые они должны были бросать, губки. После чего прикончил их всех, словно бы это были гиганты». На последнем году жизни его охватила прямо-таки безумная страсть к удовольствиям. На четырнадцатидневных играх он бросался из одного боя в другой, точно желал перещеголять себя самого перед близкой смертью. В первый день состоялась шикарная травля, если не сказать просто резня, ибо, сидя в своей почетной ложе, Коммод перестрелял сто медведей. Затем утром он сам участвовал в травлях, а после полудня выступал на арене в качестве гладиатора, причем в разное время противниками его были префект преторианской гвардии Квинт Эмилий Лэт и спальник Эклект, уже замыслившие убийство господина. Дион Кассий, вынужденный быть в качестве сенатора свидетелем подвигов императора, так рассказывает об этом: «Против него с деревянным мечом бился атлет либо гладиатор, вызванный им самим или народом. Ибо в данном случае он выставлял себя обычным гладиатором, за исключением, правда, того, что другие получали за выступления мизерную плату, в то время как Коммод дважды в день брал из гладиаторской кассы но сто пятьдесят тысяч драхм… Сразившись с Лэтом и Эклектом в спортивных схватках и конечно же победив, он расцеловал их, как был, не снимая шлема. После него бились и другие. В первый день он, одетый Меркурием и с золотым жезлом в руках, распределял пары, стоя внизу на позолоченном же возвышении. Это мы приняли за предзнаменование. Оттуда он поднялся наконец на свое обычное место и досмотрел бои до конца. После этого бои перестали напоминать детские забавы, и многим они стоили жизни… Когда бился император, мы, сенаторы, всегда становились рядом со всадниками… И кричали все, что нам было приказано, а обычно следующее: „Ты — господин, ты — Первый! Ты — счастливейший из людей! Ты — победитель, ты останешься им! Ты — единственный на все времена! Ты — победитель, о Амазонии!"» Коммод, падкий на подобные восхваления, мог, впрочем, и нагнать страху на заказной хор. Так, однажды император убил страуса и, злобно глядя на Диона Кассия и его друзей, принялся размахивать головой птицы у них перед глазами. Эта сцена грозила вызвать у них нервный смех, из чего, конечно, ничего хорошего не вышло бы. Однако сенаторы вовремя подавили его, догадавшись сорвать со своих лавровых венков несколько листьев, сунуть их в рот и жевать. Само собой разумеется, что человек, столь болезненно тщеславный и подверженный столь безграничному самолюбованию, был просто без ума от гладиаторских званий, присваивавшихся ему. Каждый его визит в гладиаторскую школу обязательно предварялся выступлением глашатая. По сообщению Диона Кассия, там он жил в одном из залов первого разряда, ибо претендовал на то, чтобы считаться секутором первого класса. Именно оттуда собирался он в первый день нового 193 г. направиться в снаряжении секутора для вступления в консульство, что и переполнило чашу терпения. По приказу своего советника и любовницы Коммод днем раньше был удушен в бане — и именно гладиатором по имени Нарцисс. И даже после смерти Коммода позорные повадки императора вызывали среди сенаторов настоящие приступы ярости. Сила привычкиЧем большего числа человеческих жизней требовали игры, тем более блистательными они считались и тем самым увеличивали авторитет устроителя. На Цоколе статуи, воздвигнутой в 249 г. в память о гражданине Публии Бебии Юсте, занимавшем все посты и организовавшем великолепные гладиаторские игры, мы читаем следующее: «Он в Минтурнах в течение четырых дней выставил одиннадцать пар гладиаторов, из них было убито 11 гладиаторов из первого разряда Кампании и 10 кровожадных медведей». Подобные увековеченные в камне восхваления организаторов игр запечатлены на многочисленных памятниках и надгробиях. Так, например, другая надпись, выбитая на камне, отмечающем последнее пристанище высшего городского чиновника из Пелтиния, гласит, что умерший устроил трехдневные гладиаторские игры, представив для них «четверых преступников», публично казненных на арене, чем и угодил народу! Чем ужасней, тем прекрасней! Так казалось зрителям, а по их вкусу устраивались и игры. Однако на гладиаторских играх не только чернь безудержно утоляла жажду крови — большинство императоров и людей образованных были в этом смысле ничем не лучше толпы. Выше мы уже приводили многочисленные примеры ужасающей жестокости различных правителей — Калигулы и Клавдия, Домициана и Коммода. В сравнении с ними следующая выходка императора Коммода кажется почти безобидной. «Когда некоторые из них (гладиаторов) не пожелали убивать своих противников, он приказал их связать и заставил биться всех вместе», — сообщает Дион Кассий. «И они принялись биться друг с другом, но часто убивали тех, кто не имел к ним никакого отношения, ибо все они находились слишком близко в давке на маленьком пятачке». Но не только император был в восторге от собственной необычной идеи — зрители радовались этой сцене, приятно разнообразившей обычную программу. То, что нас отталкивает, римлян притягивало. Между моралью сегодняшней и вчерашней — тысячелетия цивилизации. Но где же искать причины столь отличного от нашего образа мыслей и чувств римской античности? Чем же притягивало римлян это коллективное опьянение кровью? «Римский законодатель предоставил отцу полную власть над сыном, сохранявшуюся всю жизнь: он мог сажать сына под замок и бичевать его, держать закованным на сельских работах и даже убить». То, что греческий писатель Дионисий Галикарнасский, живший в Риме на рубеже тысячелетий, писал об абсолютной власти раннеримского главы семьи, с развитием цивилизации понемногу стиралось (что находило отражение и в изменении законодательства), но по сути структура римской семьи, а значит, и всесилие pater famiUas по отношению к детям сохранялось всегда. С малых лет человек в этом обществе подвергался унижениям, личное достоинство его подавлялось. Агрессивность усердно работавших плетью отцов накапливалась в потомках и выплескивалась в садистском любовании жестокостью, преподносившейся на арене. Насилие, которое римлянин ощущал впервые еще в детстве, продолжало жить в нем и пугать его, так что освобождение от подавляемых в себе страхов приносило лишь зрелище того, как другие расправляются друг с другом с помощью насилия. «Подобно связанному зверю, жестокость прячется в душе человека, готовая к прыжку», — говорил Вильгельм Штекель, сначала сотрудник, а затем противник Фрейда. Гладиаторство Древнего Рима он считал выражением ненависти и воли к власти — двух черт римского характера, толкавших их на все новые завоевания. В «Истории римской культуры» Отто Кифер, исследуя сексуальность римлян, указывает на частое использование в данной связи плетей, пыток, разного рода извращенных способов казни, когда вместо животных в жертву приносились люди. Отношение римлян к гладиаторским играм объясняется также и делением человечества на господ и рабов. Само понятие прав человека, а вместе с ним и благоговение перед человеческой жизнью было совершенно чуждо римской античности. Римляне выступали в роли хозяев мира, полноправной, так сказать, части человечества, прочим же, т. е. бесправной части рода людского, была уготована участь рабов. А бесправный не имеет права в том числе и на жизнь и сострадание. В глазах римлян военнопленные и рабы на арене были не более чем врагами государства и варварами, существование которых общество считало столь же никчемным, а то и вредным, как и отверженных либо преступников, выступавших вместе с ними. Этрусские погребальные празднества превратились в римские гладиаторские игры, религиозный ритуал породил приятный способ времяпрепровождения. Если раньше человеческими жертвами успокаивали кровожадных богов и души умерших, то теперь резней на арене ублажали жаждавших крови живых. Первоначально заимствованные чужие игры в жестокое, военное время проводились довольно редко. Затем — все чаще и чаще, пока наконец не стали заурядной частью повседневности. По мере того как развлечение это становилось все более обыденным, возрастала и тяга ко всякого рода извращениям, с удовлетворением поглощавшимся толпой. Чем отвратительнее был хоровод смерти на арене, тем большей становилась его притягательность. Жестокости арены притягивали словно магнит даже тех зрителей, которые считали себя достаточно защищенными внутренним отвращением к такого рода развлечениям. Именно так, против собственной воли, чувств и разума, в водоворот страстей и коллективного опьянения кровью был втянут и Алипий. «Ибо только он увидел кровь, как тут же вдохнул в себя дикую жестокость и не мог уже оторвать взгляда, и, словно завороженный, смотрел на арену, и наслаждался диким удовольствием, и не знал этого, и упивался с кровожадным наслаждением безобразной этой борьбой. Нет, он был уже не тот, каким был, когда пришел сюда: он стал одним из толпы, с которой смешался, он стал истинным товарищем тех, кто притащил его сюда» — так описывает состояние и поведение Алипия во время его первого посещения арены его друг Августин, которого мы подробнее цитировали выше. Заразившись лихорадочным безумием толпы, Алипий стал таким же, как и многие, ненасытным фанатиком, плененным ослепляющим и оглушающим величием и великолепием игры со смертью. Эту «глубокую деградацию нации» Теодор Моммзен, великий историк XIX в., назвал «раковой язвой позднеримской и вообще всей заключительной эпохи античности». Необходимо, впрочем, отметить, что коллективное опьянение резней владело массами не только в поздкеримскую эпоху, но и столетиями раньше, во времена Республики. Жестокости совершались во все времена и всеми народами, и всякий, кто попытался бы их квалифицировать или хотя бы перечислить, содрогнулся бы от ужаса, заглянув в эту бездну. Было бы неверным использовать лишь такого рода извращения при оценке любого народа и его эпохи. Величие Рима, сформировавшего Запад, несомненно, как несомненны и его достижения, влияние которых во многом ощущается и по сегодняшний день. И все же если мы действительно хотим справедливо оценить римскую античность, то не заметить чудовищных гладиаторских игр просто невозможно. Натравливание людей друг на друга исключительно во имя развлечения скучающей толпы — вот, по-видимому, наиболее варварское увеселение народа, когда-либо изобретенное человечеством. Ведь человечество всегда давало выход своей жажде жестокостей не только в войнах. Во всех странах и во все эпохи пытки и чудовищные казни привлекали массу зевак. Примером тому может служить европейское средневековье с сопутствовавшими ему сожжением ведьм, колесованием, четвертованием и вешанием еретиков, и все это во имя Иисуса Христа. И в наши дни публичные казни в Африке, Китае и других странах точно так же притягивают толпу; в исламских государствах тысячи зрителей не упускают возможности «полюбоваться» поркой преступников или же зрелищем того, как вору отрубают блудливую руку. А мы сами разве не наблюдаем кровавые игрища в кино и по телевизору? Разве мы точно так же не бываем во власти собственных агрессивных инстинктов, когда не можем на экране оторвать глаз от погони, завершающейся убийством преступника? Конечно, в данном случае действительность подменяется игрой, однако удовольствие, которое мы испытываем, следя за этими цивилизованными эрзац-играми на арене жизни, питается из тех же самых, что и у наших предков, источников в глубинных тайниках человеческой души. Почему общественность с такой жадностью пожирает всякое новое сообщение о садистских убийствах? Ответ прост: то, чего не можешь пережить лично, хочется повторить хотя бы в душе. Жажда крови и азарт притягивают ежегодно к бою быков не только испанцев, но и толпы туристов, дома не способных даже курице свернуть шею. Глас вопиющего в пустынеТакие поэты, как Марциал и Статий, восхваляли все, что исходило от правительства, поэтому неудивительно, что они точно так же воспевали и гладиаторские игры. Понятна и позиция страстных поклонников всего римского, которые частью по причине односторонности и узколобости, частью из стремления противодействовать якобы изнеживающему влиянию греческой культуры защищали необходимость боев на арене. И даже такой высокообразованный государственный деятель, как Цицерон (106-43 гг. до н. э.), которому кровавая резня в общем-то была отвратительна, не смог по-настоящему осудить ее. Оговариваясь, что некоторым современникам гладиаторские игры кажутся бесчеловечными и жестокими, он тем не менее оправдывает их, заявляя, что более сильного средства научить презрению к боли и смерти не существует. Еще через полтора столетия те же самые аргументы повторяет Плиний Младший (62-113 гг. н. э.), человек истинно духовного и благородного склада. Так, однажды он хвалил своего друга за то, что тот в память о своей умершей жене устроил великолепные гладиаторские игры с травлей большого количества пантер, «зрелище не слабое и не мимолетное, и не такое, какое могло бы сломить или расслабить мужество, но которое способно разжечь его и подвигнуть на прекрасные подвиги, на презрение ран и смерти, ибо ведь и в сердцах рабов и преступников бывает любовь к славе и стремление к победе». Гладиаторские игры как часть военной подготовки — при помощи этого тезиса духовная и правящая элита Рима долгое время оправдывала чудовищное развлечение. Кроме того, цезари рассматривали их в качестве инструмента снижения социального давления, накапливавшегося в склонном к мятежным настроениям городском пролетариате. Показательным для римского взгляда на игры является отношение к ним высокообразованного язычника Симмаха, одного из последних «истинных римлян», консула 391 г. н. э. Несмотря на христианское отношение к людям, уже тогда оказывавшее большое влияние на общество, он хладнокровно высказался по поводу взаимного удушения 29 военнопленных-саксов, не желавших выступать на организованных им гладиаторских играх: «И как личная стража частного человека могла бы сдержать нечестные руки этого отчаянного племени!» Для него эти самоубийцы были хуже, чем Спартак и его товарищи. И Симмах, уподобившись Сократу, успешно утешавшему самого себя относительно несбывшихся желаний, смотрел на случившееся вполне спокойно. Впрочем, решительным противником бойни на арене показал себя стоик Сенека (4 г. до н. э. — 65 г. н. э.), хотя лишь в преклонные годы. «Жизнь одного человека, священная некогда для другого, стала ныне смехотворной ставкой в гладиаторской игре», — вполне справедливо возмущался он. Убийство одного человека другим, демонстрируемое на потеху толпе, он резко осуждал, считая это не просто упадком, но извращением нравов. И все же Сенека оставался вопиющим в пустыне. Его голос разума точно так же не возымел на римлян никакого воздействия, как и подобные филиппики, содержавшиеся в литературных обвинительных речах, которые сочиняли учащиеся риторских школ, римских высших учебных заведений. Большего не сказала и критика других языческих философов, мыслителей и писателей эпохи Империи, в основном греков либо эллинизированных жителей Малой Азии, происходивших из восточных провинций Империи. К их числу относились стоик Эпиктет (55-140 гг.), искалеченный раб кз Фригии, и высокоинтеллектуальный греческий сатирик Лукиаи (120–180 гг.), говоривший о развращающих общество чудовищных гладиаторских играх, целью которых является уничтожение людей, которых Рим с большим успехом мог бы использовать в борьбе против собственных врагов. Поворот в общественном сознании начал обозначаться лишь с распространением проповедуемой христианством любви к ближнему, особенно униженному. И тем не менее даже значительная часть христиан долгое время отдавала должное отвратительному развлечению. Около 200 г. н. э. на них, а в первую очередь на предлог, которым они прикрывали свое поведение, — смерть на арене является якобы заслуженным наказанием для преступников, — обрушивался со страстными разоблачительными обвинениями наряду с другими и североафриханский церковный писатель Тертуллиан: «Так вот и получается, что иной, кого при виде умершего естественным образом человека охватывает страх, в амфитеатре совершенно спокойно взирает сверху вниз на изъеденные зверьми, разодранные и плавающие в собственной крови тела. Более того, тот, кто якобы пришел сюда лишь для того, чтобы выразить свое одобрение наказанию убийцы, приказывает плетьми и розгами заставить гладиатора, не желающего убивать, все-таки делать это… Если кто-то способен понять утверждение, будто жестокость, злодейство и дикость звериная есть нечто для нас разрешенное, тот пусть идет в театр! Если бы мы (т. е. христиане, которых язычники подозревали в том, что они убивают и поедают детей) действительно были такими, как о нас говорят, то мы радовались бы пролитию человеческой крови. Но ведь это хорошо, когда преступники несут заслуженное наказание. Кто, кроме виновных, станет это отрицать? И все-таки невинному не подобает радоваться казни ближнего. Ему следовало бы печалиться тем, что человек, равный ему, стал таким преступником, что теперь с ним обращаются столь чудовищным образом». Но что могут значить слова одного против страсти целого народа? Почему народу следовало воздерживаться от такого развлечения, когда и императоры не только терпели, но даже и поощряли этот дурман? Для того чтобы действительно извести чуму, само государство должно было принять действенные меры. Лишь только в IV в. была предпринята первая серьезная попытка покончить с этим ожесточающим сердца людей и противоречащим христианскому учению безнравственным развлечением. По-видимому, под давлением собравшегося тогда Никейского собора Константин Великий 1 октября 325 г. обнародовал в Берите (Бейруте) эдикт, порицавший «кровавые зрелища» в мирное время. В одном из его разделов предписывалось отныне посылать преступников не на арену, а на каторжные работы в рудниках. И хотя большинству тех, кого эдикт непосредственно касался, конец был обеспечен практически один и тот же (во втором случае его все же следует считать более милосердным), смерть по крайней мере перестала служить средством развлечения толпы. Возможно, что эта-то часть эдикта и выполнялась, но уж никак не та, что вообще запрещала проведение гладиаторских игр. (Тут необходимо, впрочем, отметить, что и запрет касался в основном восточной части Римской империи.) В Италии христианский император Константин, лично посылавший некогда германских военнопленных на арену и организовавший несколько отличавшихся исключительной кровавостью массовых убийств, сам отменил свой собственный указ. Ибо немногим позже он выразил свое письменное согласие с просьбой города Гиспелла (Спелло) о подтверждении права жрецов умбрийских городов на организацию гладиаторских игр. Их коллеги в Этрурии, должно быть, как и прежде, совместными силами проводили игры в культовом центре Вольсинии (Болсена). Еще одно доказательство существования гладиаторских игр дает календарь празднеств, составленный Филокалом на 354 г., в котором указываются и гладиаторские игры, обычно устраивавшиеся квесторами в декабре. Христианская религия, официально разрешенная в 313 г. Миланским эдиктом Константина Великого, к тому времени не обладала еще достаточным влиянием на государство и потому не была способна нанести гладиаторству решающий удар. Несколько десятилетий длился этот сложный процесс, знавший и подъемы, и спады. Последовавшие затем законы вводили новые ограничения. В императорском указе от 17 октября 357 г. Констанций II запретил солдатам и придворным в Риме поступать добровольцами в гладиаторские школы. Наказаниям подлежали и те, кто их к этому склонял. Законы Валентиниана от 1 и 15 января 365 г. и 9 апреля 367 г. запретили осуждать христиан и придворных к пребыванию в гладиаторских школах. Еще через 30 лет, а именно в 397 г., Аркадий и Гонорий распорядились, чтобы сенаторы не принимали более к себе на службу гладиаторов из школ. Однако гладиаторские игры, по крайней мере на Западе, продолжались, хотя их окончательный запрет был только вопросом времени. Еще один шаг вперед сделал Гонорий, правитель Западной Римской империи, закрыв в 399 г. последние гладиаторские школы. И тем не менее варварство, культивировавшееся столетиями, уничтожено не было. В своей исповеди, записанной около 400 г. н. э., Блаженный Августин повествует о гладиаторах так, как если бы они все еще продолжали биться на арене. В написанном между 402 и 403 гг. стихотворении против Симмаха Пруденций заклинает императора не приводить более смертной казни в исполнение в амфитеатре, дабы она не служила развлечением для народа. Осужденных следует лишь бросать на съедение диким зверям — довольно странное предложение, особенно в сочетании с требованием прекратить гладиаторские бои. И увещевания известного христианско-латинского поэта Пруденция не прошли, видимо, мимо ушей императора Гонория, хотя для окончательного запрета игр понадобилось еще особое происшествие, привлекшее к себе всеобщее внимание. Во время гладиаторских игр в римском амфитеатре некий Телемах, монах из Малой Азии, выбежал на арену и бросился между бойцами, с тем чтобы разнять их. Разгневанная же бесцеремонным вмешательством толпа набросилась на него и растерзала. Вот это-то драматическое событие якобы и побудило Гонория в 404 г. окончательно отменить гладиаторские игры в Риме. Точной эту дату считать нельзя, тем более что имеются сомнения, не является ли история монаха Телемаха лишь легендой, которую привел Теодорет в связи с прекращением гладиаторских игр. Некоторые исследователи считают, что он перелицевал аналогичный случай, жертвой которого в 391 г. стал некий Аламах. После прекращения гладиаторских игр довольно долго продолжали устраиваться звериные травли, то запрещаемые, то поощряемые. В 534 г. в своем письме к архиепископу Константинопольскому император Юстиниан жалуется на то, что даже духовные лица посещают подобные представления. Травли, эти «слезами обильные игры», были окончательно запрещены лишь в 681 г. Это означало окончательную победу христианства и его проповеди любви к ближнему. Истязания гладиаторов во имя публичного развлечения народа остались позади, однако чудовищные жестокости, хоть и во имя Иисуса Христа, совершались и столетия после этого. Но когда Спартак со своими 70 товарищами бежал из знаменитой капуанской гладиаторской школы Лентула Батиата, не было еще ни христианского Евангелия, ни малейших обвинений против гладиаторства. Случилось это незначительное поначалу происшествие в 73 г. до н. э., когда Республика клонилась к закату, а первый римский император еще не вступил на трон. Спартак и его гладиаторы были отбросами общества — так казалось римлянам. Так они с ними и обращались. |
